ПАНТЕЛЕЕВ
И.И.
Чужой
Глава 1
 У
Леньки
умерла мама.
Расхристанная
воротилась
из магазина,
переступила
порог и, надломившись
будто,
сунулась
лицом вниз;
бутылка
хрястнулась
о
никелированную
спинку
кровати,
брызнули
мокрые
осколки, и
тяжелый
винный дух
вмиг напитал
комнату; а в
маленькой
маминой руке
куце
засветилось
зеленое
горлышко с
золотой
бескозыркой
пробки; его
потом с
трудом
освободили
от крепко
скрюченных
пальцев...
У
Леньки
умерла мама.
Расхристанная
воротилась
из магазина,
переступила
порог и, надломившись
будто,
сунулась
лицом вниз;
бутылка
хрястнулась
о
никелированную
спинку
кровати,
брызнули
мокрые
осколки, и
тяжелый
винный дух
вмиг напитал
комнату; а в
маленькой
маминой руке
куце
засветилось
зеленое
горлышко с
золотой
бескозыркой
пробки; его
потом с
трудом
освободили
от крепко
скрюченных
пальцев...
Пьяная
тетка Ливаниха
заругалась
на маму:
—Лешая!..—
но глаза ее
вдруг
сделались
испуганно большими
и страшными.
- Не могла
как люди…
дура!..— еле
провернул языком
отчим и
скрипнул
прокуренными
зубами.
—Мама-а-а!..—
затрясся в
истерике
Ленька.
Весть о
беде
облетела всю Заиху. И
потекли в дом
люди. Входили
осторожно, на
цыпочках,
переговаривались
вполголоса и шепотом,
словно
боялись
разбудить
покойницу.
Бабы
горестно
вздыхали,
блаженно
вытирали
слезы
платком. Уже
под вечер
подкатил грузовик.
Кто-то из
мужиков
услужливо растворил
скрипучие
створки
ворот. Шофер упреждающе
посигналил и
неловко
спятил машину
в тесную
ограду, к
крыльцу.
Маму
завернули в
старое
байковое
одеяло, как
дрова
погрузили в
пустой кузов
— только голова
мертво
стукнула.
Шофер,
вышагнув из кабины
на подножку,
заглянул в
кузов:
— Вы к ней
запаску
привалите,
чтоб...—
Осекся, добавил
виновато и
совсем тихо:
— Дорога-то тряская...
Грузовик
выдохнул
синий клок
едкого бензинового
дыма,
медленно
тронулся.
—Резать,
сердешную,
повезли, в натомку,—
авторитетно
сказала Ливаниха
и неумело
перекрестилась.
Леньке
было плохо. С
утра его
познабливало,
он
перемогался,
надеялся —
пройдет, как
уже не раз
проходило;
обычно в
таких
случаях мама
совала ему
горькую
таблетку,
выпаивала кружку
горячего чаю
с малиновым
вареньем или
тягучим
душистым
медом и,
уложив в постель,
укутывала
одеялом, чтоб
пропотел и
выздоровел.
Он потел; и
выздоравливал.
Но мамы теперь
нету и
никогда не
будет...
Забившись в
угол поднавеса,
Ленька
обреченно
плакал,
плакал долго
и горько, до
икоты и, лишь
обессилев
вконец,
затих,
съёжившись в
комок, ему
было то
жарко, то
знобко, он
стискивал зубы
и терпел. Уже
в сумерках
отыскал его
младший
братишка
Витька...
Ночью
навалились
кошмары:
какие-то человеко-звероподобные
существа с
огромными
пустыми
глазами тянули
к нему злые
крючковатые
пальцы с
хищными
когтями и
всякий раз,
когда они
хотели стиснуть
ему горло,
откуда-то
сбоку
доносился
мертвый стук
маминой
головы, и он
просыпался...
Назавтра
он не встал с
постели. Было
воскресенье,
выходной, и
Витька
сбегал за
фельдшерицей
Саяной
Петровной
домой.
Пока она
осматривала, ослушивала,
ощупывала
больное
Ленькино
тело, отчим
безучастно
заполнял
собой проем
открытой двери.
Он или не
протрезвел
еще со
вчерашнего
или уже успел
похмелиться
— красные
глазки его
пьяно пучились
на оплывшей,
в серой
щетине,
носатой физиономии.
— Все
ясно,—
маленькая,
аккуратная Саяна
Петровна
недоуменно
оглядела
неопрятную
мешковатую
фигуру
отчима,
словно
удивилась
его
присутствию.—
Мальчика
надо немедленно
в больницу.
Отчим
беспомощно
развел
большими,
тяжелыми
руками,
хрипло забормотал,
что
начальника
дома нету —
уехал в город
к родне, а
люди, у кого
свои машины,
давно на
покосе — где
их найдешь в
тайге...
—
Мальчика
надо
немедленно в
больницу,— жестко
повторила Саяна
Петровна.—Сейчас
половина
одиннадцатого,
со станции
должен прийти
рейсовый
автобус,
может, уже
пришел. Иди и
скажи шоферу,
чтоб
немедленно
ехал сюда. Ну,
чего стоишь?
Торопись, а
то Булыгин
укатит на
покос —
оттуда его до
вечера не
добудешь.
— Не
поедет он,—
угрюмо
протянул отчим.
— Поедет.
Он что, не
человек?
Отчим
ушел — вслед
ему противно
взвизгнула
сенная дверь,
она всегда
так
взвизгивала, эта
дверь,
сколько раз
мама просила
отчима смазать
петли
солидолом, он
отмахивался
от маминой
воркотни, все
обещал
смазать, да так
и не смазал...
Ленька
совсем
расхворался.
С трудом с
помощью
Саяны
Петровны
умылся,
обулся,
устало прилег
на
продавленный
диван,
положив горячую
голову на
жесткий
валик.
Вскоре у
калитки
остановился
обшарпанный,
с разбитым
боковым
стеклом
оранжевый «ПАЗик»,—
как видно,
отчиму
удалось
перехватить
Булыгина. Саяна
Петровна
усадила
Леньку на
переднее
сиденье у
окна, села
рядом с ним, а
отчиму
сказала:
— Без
тебя
управимся,
Трофим. Ты
оставайся — у
тебя и так
дел по горло.
Или забыл?
Отчим неловко,
отводя
взгляд в сторону,
потоптался
на месте,
хотел,
наверное,
что-то
сказать,
возразить, но
лишь
безвольно
махнул рукой.
Поехали...
Оргстекла,
отгораживающего
водительскую
кабину от
пассажиров,
не было —
разбилось,
злые же языки
судачили по Заихе, что
Степан
собственноручно
снял его и
приспособил
для
мотоцикла. Хочешь
— верь,
хочешь — не
верь, а на
коляске Степанова
«Урала» и
впрямь
появилось
нестандартное
ветровое
стекло, но
попробуй-ка,
докажи, что
оно с
казенного
автобуса? Не
докажешь —
свидетелей
нет, да и
зачем они, свидетели,
Степану? Все
в деревне
знают, что автобус
у Булыгина
как бы своя
личная машина,
делает он на
нем, что
хочет, даже
копны к зароду
по таежным
колдобинам
возит. Что
копны! Ленька
видел, как он
однажды
волок листвяжный
хлыст на
Дрова; бедный
«ПАЗик» надсадно
урчал,
еле-еле тянул
по наезженной,
тронутой
мартовской
оттепелью
дороге, а когда
остановился
возле Булыгинского
дома — мотор
весь
окутался
паром — в
радиаторе
закипела
вода.
Кое-кто
пробовал
урезонить
хваткого
Степана, да
тот
зубастый—
палец в рот
не клади —
отвечал с
ухмылкой:
—Техника
не должна
простаивать.
Перед
Ленькой
прыгал
затылок
массивной, в копне
рыжих
свалявшихся
волос,
Степановой
головы,
плотно
сидящей на
широких
округлых
плечах,
обтянутых блескучей
синей
тенниской.
Булыгин
сердито жал,
как
говорится, на
все педали,
автобус тяжело
встряхивало
на выбоинах,
и тогда взбрякивали
под сиденьем
приплюснутое
ведро и
лопата, а у
Леньки
невольно
вырывался
жалобный стон.
— Степан,
ты чего
дуришь!
— Так ты ж
сама,
Петровна,
говорила,
быстрей надо,—
полуобернулся
Булыгин.—
Оно, конечно,
дорога — не
асфальт.
— Вот-вот,
не асфальт. И
не гони так —
на покос сегодня
все равно не
поспеешь, а
парня вконец
растрясешь,
он и так чуть
жив.
— Ладно
уж,—
примирительно
отозвался
Степан и
вздохнул: — А
денек-то, денек
— как по
заказу—
самый раз
сено метать.
Денек и
вправду
выдался как
по заказу: ни
единого
облачка в
просторе
голубого
неба, по обеим
сторонам
дороги, вся
пронизанная
жарким
солнцем,
уютом
дремала
светлая
тайга, но
ничего этого
не замечал
Ленька...
Худо ему
было: совсем
худо: он то
видел перед собой
рыжую
Степанову
шевелюру, то
вдруг проваливался
куда-то в
темноту и
ничего не видел,
не
чувствовал. А
«ПАЗик»
все
подкидывало
и
подкидывало,
и голова от
этого просто
раскалывалась
на части, казалось,
не будет
конца
мученьям. Но
все же пришел
конец сорокакилометровой
тряске.
Автобус
въехал в
больничный
двор.
Леньку
на каталке
привезли в
палату и уложили
на
больничную
койку, над
ним то и дело
склонялись
какие-то
женщины в
белых халатах,
о чем-то
озабоченно переговаривались.
Среди женщин
он заметил седого
старика.
Худущее —
кости да
кожа, в сплошной
сетке
глубоких
морщин,— лицо
его показалось
ему знакомым,
он силился
вспомнить,
кто он, и не
вспомнил...
Глава 2
Размытое
темное пятно
постепенно
проявлялось; и,
наконец,
четко
обозначился
матовый пузырь
лампочки,
одиноко
свисающей с
высокого белого
потолка. В
горячечном
полузабытьи, когда
болезнь
пеленала его
всего, он уже
видел и эту
лампочку, и
этот потолок,
видел вскользь,
посторонне,
теперь же,
когда полегчало
немного и
сознание
просветлело,
он мог оглядеться.
Ему не
доводилось
лежать в больнице,
о ней он знал
понаслышке;
со слов Петьки
Широкова с Глухаринки;
Петька был
старше на
целых два,
года и перешел
в седьмой
класс, он
клялся-божился,
что лежать в
больнице
здорово: в их
палате
стояло
десять коек —
десять
мальчишек со
всего района
собралось —
весело было,
вот только
кормежка плоховатая,
но Петьке
хватало,
потому что к
нему через
день ездила
бабушка и
мать приезжала.
— Знать,
оклемаешься,
Леонтий,
услышал он
глуховатый
старческий
голос и
увидел, давешнего
старика, но
теперь сразу
узнал Андрея
Леонтьевича
Лопатина,
деда Леонтьича,
как звали его
зайские
ребятишки,
узнал и
подивился,
что ему нужно
здесь, в
больнице.—
Оклемаешься,
паря,— повторил
старик, присаживаясь
к нему на
ребро
железной
койки, а Ленька
догадался,
что Леонтьич
в одной с ним
палате лежит,
и подивился
снова, чего
ему делать в
ребячьей
компании? И еще
раз
подивился,
углядев за
дедовой
спиной еще
одного
старика и
еще... А где же
мальчишки? Леонтьич,
словно
догадываясь
о Ленькиных
мыслях, сказал,
посмеиваясь:
— Попал
ты, паря, к дедам-бессердечникам
на расправу —
теперя
держись, мы
тебя быстро
своим
премудростям
выучим, — и,
понизив
голос,
спросил
озабоченно: -
Ну, как там у
тебя, болит?
— Болит,—
пошевелил
обветренными
губами
Ленька.:— Голова
кружится и
силы
нисколечко
нету.
— А ты
духом не
падай, паря,
не
поддавайся
хвори-то.
Хворь, она
сама нипочем
не отступится,
ее прогнать
надо. Да-да.— И
закивал
головой.— Ты,
небось,
оголодал
совсем, ишь
как выхудал
— шкелет шкелетом.
Одни волосья
торчат.
Погодь, тут
мне
Ефросинья
Марковна,
Фрося моя,
варенья из
черницы
привезла. Я-то
не охотник до
вареньев.—
Он весело
подмигнул
Леньке.— Мне
больше по
душе
витамины на
букву «цэ»:
сальце,
мясце,
маслице.
 От
этой
застарелой
дедовой
шутки Леньке
стало как-то
посвободнее,
он даже
попытался улыбнуться;
вместо
улыбки вышла
неловкая гримаса.
От
этой
застарелой
дедовой
шутки Леньке
стало как-то
посвободнее,
он даже
попытался улыбнуться;
вместо
улыбки вышла
неловкая гримаса.
А Леонтьич
шустро
поднялся;
Ленька не
успел ничего
сообразить,
как он снова
сидел возле
него уже с поллитровой
банкой
варенья в
одной руке и
чайной
ложкой в
другой. Не хочу
я— стал было
отказываться
от угощенья Ленька,
ему и в самом
деле не
хотелось ни
варенья, ни
чего другого.
— Это как
так не
хочешь, а?..—
возмутился Леонтьич.—
Да ты
соображаешь,
садовая твоя
голова, что
это свежая
черница с
сахаром. Моя
Фрося перекручивает
ее и так
варенье в
зиму делает,
в ем все до
единого
витамина
сохраняются.
Черница это!
Она от самой
земли-матушки
самые лучшие
полезные
соки в себя
впитывает и
людей от
глаз, от
живота, от
всякой
разной хвори
лечит, а ты —
не хочу... Ишь
ты герой
какой!.. Я те
покажу, как
со мной
спорить!—Хоть
и старался Леонтьич
придать
своему
голосу
грозность, но
чувствовалась
в нем
какая-то
особая,
щемящая душу
человеческая
мягкость, и
Ленька не
устоял,
покорился.
Дед помог
ему
поудобнее
сесть на
постели.
—Вот так
потихоньку.
Голова, поди,
кружится, да
ты не бойся —
завсегда так
при хвори. Ты
лучше спробуй-ка.
Он
зачерпнул из
банки полную,
с краями,
чайную ложку
варенья и
поднес
Леньке, и
Ленька не
оттолкнул
дедову руку,
не
возмутился,
что
обходятся с
ним, как с грудным
малышом,
покорно
открыл
навстречу ложке
спекшийся
рот; язык
обдала
необыкновенно
душистая
сладкая
черничная
прохлада и
потекла
внутрь,
наливая
ватное
Ленькино
нутро
живительной
упругостью.
Ленька
съел пять-шесть
ложек
варенья и,
уставший,
опустил тяжелую
голову на
подушку.
—Молодец,—похвалил
Леонтьич.—
Так и надо. Мы
же с тобой навроде
как свояки.
Ленька не
понял: как
это?
— А так. Ты
— Леонтий, а я
—Леонтьич,
Чем не
свояки, да
еще оба
хворые.
— Я не
Леонтий, я —
Леонид,—
слабо
возразил
Ленька.
— Что
Леонид, что
Леонтий — всё
одно свояки. Значтца,
друг дружки
должны
держаться.
Ленька согласно
кивнул.
Видно, и в
самом деле
чудодейственным
лекарством
оказалось
дедово
черничное
варенье, и с
его помощью
Ленькин
молодой
организм
начал
перебарывать
болезнь. Уже
на другой
день ему получшело,
он без
посторонней
помощи
садился на
постели.
Перезнакомился
со всеми в
палате. Оказывается,
в детском
отделении не
было свободных
мест и Леньку
временно
поместили к
дедам- сердечникам
(Леонтьич
в шутку
говорил: «дедам-бессердечникам»),
чтоб ему
поспокойнее
было и чтоб
дедам, наверное,
была забава.
Палата
маленькая —
на четыре,
койки. Справа
у стены возле
окна стояла
Ленькина.
Напротив
лежал бывший
совхозный
агроном
Сидор Назарович
Шубин,
«молодой
старик», так
про себя
окрестил его
Ленька; лицо
у него было
бледное, без
морщин,
темные,
неопределенного
цвета отрешенные
глаза, а
волосы белые,
ну просто невозможно
белые, как
снег в ихней
Зайской
тайге зимой.
Докторша не
разрешала ему
вставать с
постели и
потому,
наверное, он был
весь очень
серьезный и
важный, все
время храпел,
когда спал, и
храпел, когда
читал газету.
Ленька
удивлялся
сперва, как
это он ухитряется
одновременно
и читать и
храпеть, а
потом
приметил: он
только
держал в руках
газету, а сам
спал и
храпел. И еще:
он был
совершенно
глухой, кто
хотел с ним
разговаривать,
писал в его
блокноте
вопрос, а он отвечал
вслух всегда
резко,
отрывисто,
точно
сердился.
Наискосок
блестела
вдавленная в
плоскую больничную
подушку
серая макушка
бритоголового
старца. Через
каждые три
дня его
навещал
рослый
красивый
парень с
чистыми длиннопалыми
руками — его
внук,
студент,
приносил в
дипломате
безопасную
бритву и,
усадив его
возле
щербатой
раковины
умывальника
перед квадратным
туманным
зеркалом,
густо
намыливал
ему круглую
голову маленьким,
будто
игрушечным,
помазком, и
через пять
минут чисто
выбритый
дряхлый дед
сиял медным
котелком и
казался
моложе своих
восьмидесяти
двух лет; он
совсем плохо
видел, ходил,
выставив
перед собой
руку, чтоб ненароком
не
наткнуться
на
кого-нибудь
или на что-нибудь,
газеты читал
с увесистой
лупой в
черной
пластмассовой
оправе. Звали
его Федор
Михайлович Пухов и
был он,
видать,
когда-то
большим
человеком;
часто ни с
того ни с
сего он
останавливался
в узком
проходе между
койками и как
по книжке все
равно вещал
загадочную
фразу:
— Знаете
ли вы, что... И
выждав
какое-то
время, будто
прислушиваясь
к самому
себе, с
унылым видом,
но с пафосом
рассказывал
или про знаменитого
поэта
Маяковского,
с которым он
якобы
давно-давно,
в годы своей
молодости,
встречался в
Москве и
слушал его
выступления,
или об одном
итальянском
артисте
(Ленька не
запомнил его фамилию),
с которым
свела его
когда-то
щедрая
дорога жизни,
или...
Подобных
встреч у него
было хоть
отбавляй, на
воспоминания
о них он не
скупился.
Говорил
старец не
очень
складно, но
Леньке было
интересно, и
он невольно
проникался к
нему
уважением.
Однако
дружбы с ним
у Леньки не
сладилось.
Как-то
старец по
обыкновению
остановился в
проходе,
начал не
всегдашним
своим вступлением
«знаете ли
вы», а,
повернувшись
в. Ленькину сторону,
с пафосом
продекламировал:
—«Ничего
не поделаешь,
Ван Лин,
мой мальчик,
наша судьба
такая»,— и,
выдержав
минутную
паузу,
торжественно
возвестил.—
Это слова
большого
китайского
поэта Эми
Сяо.
Запомни их,
Леонид.
— А если я
не хочу? —
взъерошился
Ленька. (Он уже
вставал с
постели и
старался
побольше ходить,
чтоб, как
говорил
Леонтьевич,
мышцы не
закостенели.).
— Чего не
хочешь?
Запоминать? —
явно уязвленный
Ленькиной
взъерошенностью,
поинтересовался
старец.
— И
запоминать. И
вообще про
судьбу не
хочу.
— А я вот
на всю жизнь
запомнил. Еще
в учебнике
сына вычитал.
Ему тогда
столько же
лет было,
сколько
сейчас тебе,
может,
побольше на год.
Прочитал и
запомнил. В
аккурат про
тебя сказано.
— А я всё
равно не хочу.
Я все сам
сделаю. И
судьбу
сделаю.
— Ты еще
маленький...
— А
маленький не
человек, да?
— Ты,
конечно,
человек, но...
— Фёдор,
не замай
мальчонку,—
строго
вступил в
разговор Леонтьич,
— неча
ему голову
всякой
всячиной
забивать:
время придет
— сам разберется,
что к чему.
Старец, как
видно, не
ожидавший
прямого
отпора от
безобидного Леонтьича,
озадаченно
покосился на
него,
недоуменно пожал
плечами, как
бы спрашивая,
что тут такого
особенного.
Вслух же
проговорил
не столько
для
присутствующих,
сколько для себя
самого:
— А у
парня зубы
прорезываются.
— А как же
без зубов-то
в нонешнее
время? —
быстро
откликнулся Леонтьич.
Старец не
ответил, еще
раз пожал
плечами, поддернул
сползающие с
тощих бедер
застиранные
пижамные
штаны и
отошел, а Леонтьич
ободряюще
подмигнул
Леньке:
—Не слухай
ты его,
старого, у
него часом не
все дома.
До
вечера после
этого не
подавал
голоса старец,
обидчиво
ворочался на
скрипучей
больничной
койке.
Глава 3
Вселяли
Леньку к
дедам-сердечникам
временно, а
вышло —на
постоянно: Леонтьич
уговорил
докторшу не
переводить
его в другую палату,
оставить у
них. Ленька и
сам не хотел
никуда
переходить,
тут ему
жилось
славно, за
ним
заботливо
ухаживали
деды,
подкармливали,
даже глухой
Шубин и тот
всегда угощал
его
чем-нибудь
вкусным,
домашним. Два
раза в неделю
к дедам
приезжали
родные проведать
о здоровье,
привозили
полные сумки
незатейливой,
но вкусной и
сытной
деревенской
снеди, знали
— на
больничных
харчах не нагуляешь
жиру, какой
есть — быстро
спустишь. К
Леньке никто
не приезжал.
Некому
приезжать.
Отчим,
небось, и
думать забыл
о нем. Да и кто он
ему? Никто.
Вот Витька
ему сын,
родной, его он
жалеет и даже
любит,
наверное.
Витька хоть и
брат, а тоже
не приедет —
мал еще, один
в больничном
дворе
заблудится.
От таких
невеселых
мыслей
Леньке
становилось
и вовсе
невмоготу и
впереди
ничего веселого
не маячило.
Он подолгу
лежал с
закрытыми
глазами, нет,
не спал,
думал, обо
всем думал,
вспоминал
свое
коротенькое
прошлое, в котором
бывало уже
всякое — и
хорошее, и
плохое.
Отца он
смутно
помнил. Мама
говорила, что
отец его был
высокий и
красивый, темноволосый,
с сахарными
зубами.
Ленька помнил,
что он был
высокий, а
вот что
красивый — не
помнил,
темных волос
и сахарных
зубов тоже не
помнил, лицо
его как-то
стерлось в
Ленькиной
памяти, вот
громкий
голос не стерся,
запомнился.
Стоило
подумать об
отце, как
Ленька тут
же, будто
въяве, слышал
его протяжный
оклик: «А кто
там хо-одит!»,—
от которого,
если это было
в избе —
сыпалась с
потолка
известка,
если в лесу —
откликалось
эхо, а если
застигал
Леньку в
огороде, когда
он крался к
парниковой
грядке, чтоб
сорвать
первый,
только что
народившийся
огурец, то
заставлял
отдергивать
протянутую к
огурцу руку и
невольно
припадать к
земле, а отец
добродушно
смеялся, брал
и подкидывал
его к себе да
грудь, гудел
над ухом заговорщицким
шепотом:
— Мы его
денька через
два-три
приголубим,
когда
подрастет. А
сейчас он малюхонький,
на раз
укусить не
хватит.
Леньке
шел
четвертый
год, когда
отца отвезли
на кладбище и
закопали в
могилку,
потому что он
помер. Больше
он никогда не
приходил
домой, не
сажал Леньку
на колени, не
играл с ним.
Ленька
скучал по
нему,
приставал к маме
с
расспросами,
мама гладила
его по темным,
как у отца,
нечесаным
вихрам,
успокаивала,
а сама
почему-то
хлюпала
мокрым носом
и ладошкой
размазывала
слезы по
щекам.
Со
временем
Ленька всё
понял, лишь
одного не мог
понять,
почему
человек
живет-живет и
помирает, и
отчего одни
помирают
совсем молодые,
даже
ребятишки
помирают, а
другие живут
долго-долго,
до самой
старости.
Почему? Ленька
так и не
додумался —
почему; он бы
додумался, да
жизнь кругом
такая
интересная;
везде
поспеть надо,
не прозевать,
за день так
набегаешься,
что вечером с
трудом доберешься
до постели и
спишь
крепко-крепко
— самым
страшным
громом не
разбудить.
Где уж тут
думать о
чем-то
непонятном!
С
тех пор, как
Ленька
научился
ходить и
говорить и вообще
что-то
соображать,
он
совершенно
точно знал,
что у каждого
человека
бывает только
один отец, но
как-то мама
привела
домой Трофима
Евстигнеева
и сказала
Леньке:
— Трофим
Иванович
будет жить у
нас. Он твой папа.
— Мой
папа помер,—
угрюмо
ответил
Ленька.
—Это
твой второй
папа.
— Два
папы не
бывает.
—Бывает...
Мама
никогда не
обманывала,
потому что,
она сама
говорила,
обманывать
нехорошо,
стыдно, а на
этот раз
Ленька
засомневался
в правдивости
ее слов, но
спорить с ней
не стал. Он
уже знал
Евстигнеева,
тот часто
бывал у них
вечерами.
Когда он приходил,
мама
укладывала
Леньку спать
пораньше,
наверное,
чтоб не мешал
им выпивать.
Ему не
хотелось
спать, но
маму надо
слушаться. И
он слушался.
А потом
Евстигнеев
поселился у
них насовсем.
Утром
мама и отчим
уезжали на
работу в лес, а
Ленька
отводил
маленького
Витьку в детсад
и дальше
делал, что
хотел; летом,
когда не надо
ходить в
школу, целыми
днями
пропадал на
речке — ловил
стеклянной
банкой
малявок и,
случалось, налавливал
на целую жареху,
сам чистил,
чистить их —
пустяковое
дело: оторвал
головку,
вместе с ней
вытянул
скользкий
комочек
кишок - и
готово; маме
оставалось
лишь помыть и
высыпать их
на горячую
сковородку,
залить яйцом
и можно, даже
без маргарина
или масла
жарить —
такие они
жирные,
малявки, и
едят их потом
прямо с
косточками —
они только похрустывают
на зубах, а
вкусные —
пальчики
оближешь. В двенадцать
часов мама с
отчимом
приезжала с
нижнего
склада на
обед. К этому
времени Ленька
— кровь из
носу — должен
быть в
столовой.
Правда, если
он опаздывал
или,
заигравшись,
забывал про
обед, а такое
случалось
довольно
часто, мама
просила повариху
Нину
Прокопьевну
накормить
его, так что
голодным он
не оставался,
зато вечером
редко
обходилось
без
выволочки. На
мамины
шлепки
Ленька не
обижался —
дело обычное,
всем зайским
мальчишкам
достается от
матерей, а
чем он лучше?
 Отчим
сразу не
поглянулся
Леньке —
угрюмый,
неразговорчивый
мужик, вечно
пьяный или с
похмелья.
Брился он
один раз в
неделю субботним
вечером
после бани, а
и
понедельнику
успевал
зарасти жесткой
серой
щетиной, так
что вид у
него был не
ахти какой
привлекательный.
На пасынка он
не обращал
внимания, для
него он был
пустым
местом, а
началось это
давно —
Витька еще пускал
пузыри в
качалке.
Ленька что-то
набедокурил
(что именно,
он уже
позабыл), и отчим
решил
самолично
проучить его,
взялся за
ремень, да не
успел и
глазом
моргнуть, как
Ленька
выскочил в
дверь,
схватил
увесистый
камень и
замахнулся
на отчима:
Отчим
сразу не
поглянулся
Леньке —
угрюмый,
неразговорчивый
мужик, вечно
пьяный или с
похмелья.
Брился он
один раз в
неделю субботним
вечером
после бани, а
и
понедельнику
успевал
зарасти жесткой
серой
щетиной, так
что вид у
него был не
ахти какой
привлекательный.
На пасынка он
не обращал
внимания, для
него он был
пустым
местом, а
началось это
давно —
Витька еще пускал
пузыри в
качалке.
Ленька что-то
набедокурил
(что именно,
он уже
позабыл), и отчим
решил
самолично
проучить его,
взялся за
ремень, да не
успел и
глазом
моргнуть, как
Ленька
выскочил в
дверь,
схватил
увесистый
камень и
замахнулся
на отчима:
—Как дам
в глаз —
будешь
знать!.. Отчим
оторопел и,
как видно, не
на шутку
испугался
Ленькиной
угрозы и его
воинственного
вида, опустил
ремень,
плюнул в
сердцах и
ушел в дом.
Мама в тот
вечер больно
отшлепала
Леньку по
мягкому
месту. Ленька
стиснул зубы
и не обронил
ни звука.
Мама
расплакалась
и оттолкнула
его от себя.
Уже в постели
он слышал,
как она
говорила
отчиму:
—Трофим,
ты мне на
сына руку не
подымай. Понял?
Отчим
пробурчал в
ответ что-то
несвязное. Мама
была с
характером,
умела
настоять на
своем. А вот
не потакать
отчиму в
выпивке характера
у нее не
хватило, мало
того, сама
вместе с ним
пристрастилась
к граненой
стопке.
Последнее
время она
жаловалась
на сердце, и
доктор
написал ей
справку на
легкую работу.
Из лесу ее
перевели в
магазин мыть
полы, ворочать
ящики с
конфетами и
бутылками, таскать
мешки с
крупой и
сахаром.
Теперь
мама все чаще
приходила
домой раскрасневшаяся,
с нервно
поблескивающими
глазами,
значит,
соблазнилась
у тетки Ливанихи
бутылочкой
«красинькой».
Тетка Ливаниха
вовсе и не
была Леньке
теткой,
теткой звали
ее все
деревенские
мальчишки и
девчонки.
Никто из
взрослых уже
не помнил,
как, когда и
откуда
объявилась
она в Заихе.
Казалось, она
вечно
одиноко жила
на самом бойком
месте в
маленьком, угрюмовато
покосившемся
домишке
неподалеку
от магазина
и, начиная с
устойчивых
апрельских оттепелей
и до самых
белых мух в
октябре, целыми
днями
неусыпным
стражем
просиживала на
скамейке
возле
калитки,
заговаривая
со всеми
идущими в
магазин и
обратно, и не
мудрено, что
назубок
знала все
деревенские
новости и
щедро
обменивалась
ими с охочими
до житейской
«клубнички» зайскими
бабами.
Ленька
невзлюбил Ливаниху
сразу, едва
она
появилась у
них в доме с
бутылкой-огнетушителем
«красинькой»
под полой
вязаной
кофты с вечно
оттопыренными
карманами,
туго
обтягивающей
жирные
покатые
плечи ее, и,
наверное, наговорил
бы ей всяких
дерзких
неожиданностей,
но мама
вовремя обо
всем
догадалась и
пригрозила
ему пальцем.
Ленька
исподлобья
поглядывал
на гостью. А
гостья лишь
мельком
глянула на
него,
по-хозяйски
прошла в кухню,
грохнула на
стол бутылку
и приказала:
—Тащи,
Марья,
огурцов
малосольных,
луку да сала
шмат и досыть.—
Голос у Ливанихи
густой, с
надсадной
хрипотцой.
Жалобно вскрипнула
под ее
мясистой
тушей
хлипкая
табуретка.
Женщины
пили вино, а
Ленька,
забравшись с
ногами на
диван,
пытался
читать
книжку о приключениях
американских
мальчишек, Тома
Сойера и Гека
Финна, и
никак не мог
сосредоточиться
— мешал
разговор в
кухне. Ленька
не
прислушивался
к нему — мало
ли о чем
болтают за
бутылкой
вина, но
удрученно-тоскливый
голос матери
насторожил
его:
— А я ведь раньше
в рот этого
зелья не
брала.
Павел-то, муж
мой первый,
царство ему
небесное,
редко когда
выпьет в
компании
рюмку-две и
больше няни,
голова у него
на другой
день даже с
одной рюмки
болела.
Павел-то все
говаривал: «Кому
охота —пущай
пьет, а мне
вино до
лампочки». А
я-то; я-то
какая
счастливая
была! Где ты
сейчас
непьющего
мужика
сыщешь? Гляжу,
бывало, на
Павлушу-то да
на сыночка
Леню и до
того мне
радостно, до
того я
счастлива,
что и
придумать
лучшего
счастья, хоть
сколь думай —
не
придумаешь.
Да счастье-то,
видно, не
навсегда, на
время дается
человеку.
Шибко дорого
оно стоило: я
горе неизбывное
взамен
получила, а
Павлуша
жизнью поплатился.
Лесиной его в
лесу
придавило,
еще живого в Заиху
привезли, он
на руках моих
и кончился. И
счастье
кончилось...
Как и не было
его вовсе. Я
как
деревянная
сделалась,
бесчувственная
какая-то,
сперва ни слезинки
из глаз не
выкатилось, а
как приехала на
кладбище —
там меня и
прорвало.
Чуть отводились
со мной.
Тогда, на
поминках-то,
я первую
рюмку и
выпила — она свободненько
пошла,
приятно, даже
горькой не
показалась,
сивуха-то.
Так-то легко
да хорошо мне
сделалось. Я
тогда вторую,
третью...
Надралась до
соплей.
Первый раз в
жизни! Леню
маленького перепугала
— он чуть
криком не
изошел. С той поры
пошло все
вверх
тормашками — не
жизнь, а угар
какой-то. А
тут
повадился ко мне
ходить
Трофим,
примаком
приняла его в
дом, вместе в
рюмочку
стали
заглядывать. Витюшка
вот на вине
замешанный
родился.
Смотрю на него,
а у самой
душа болью
исходит. Его
ведь на
деревне
Марьиным
недоумком кличут.
А каково
такое матери
слышать?
Каково?
— Сама
виноватая,—
авторитетно
отозвалась Ливаниха.
— А-то кто
же? Сама,
сама,—
согласилась
мама.— Только
обидно ведь.
Чем я хуже
других баб? За
что на меня
такие
напасти?
—А ты,
Марья, плюнь
на все и сапогой
разотри.
Лучше налей
по махонькой
— душа добавки
просит. И тут
Ленька
смалодушничал,
не бросился в
кухню, не
вытурил Ливаниху
за дверь. Не
посмел
ослушаться
матери. Сейчас
бы он показал
этой пьяной
бабе «по
махонькой»,
ишь ты...
— Ты что
это, паря, аж
зубами скыркаешь?
Иль сон какой
страшный
приснился? —
услышал
Ленька и
увидел перед
собой
озабоченного
Леонтьича.
— Надо
днем спать
меньше —
страшные сны
не будут
сниться,—
подал
авторитетный
голос старец
Федор.— Для
сна ночь
дается.
- Это вы
день и ночь
спите,—
огрызнулся
Ленька.
- Мне,
старому
человеку,
теперь, что
день, что ночь
все едино.
— Ну и не
лезьте
тогда...
Леонтьич
укоризненно
покачал
головой:
—Колючий
ты. Ну, да тебе
и не грех
быть колючим,
не то самого заколючат,
только нюни
распусти.
Однако
старца ты
зазря обидел.
Жизнь у тебя
еще долгая впереди,
людей много
разных
повидаешь, и
если со всеми
зубатиться
— пропадешь
ни за грош, ни
за копейку. С
людьми
по-людски
надо, паря.
— А чего
он лезет...
— И
ничего ты не
понял, как
есть ничего.
Да старый он.
В старости
человек хоть
и мудрее
делается, да
только не
всегда в
точку
попадает. Он
хотел, как
лучше, а ты
сразу
петушиться.
—Я ж не
просил его,—
упрямился
Ленька.
—Опять
двадцать
пять!.. Да ты
пойми, голова
твоя два уха...
Старик не
договорил,
потому что послышался
характерный
стук, и в
приоткрывшуюся
дверь боком
вошла, нет,
сперва
«вошло» белое
эмалированное
ведро с
красными отечными
буквами на
боку «для
пола», а
потом уж
появилась и
сама
санитарка
Люся,
краснощекая
чернявая
толстушка,
вооруженная,
будто копьем,
«лентяйкой». Леонтьич
недовольно
покрутил
носом:
— Ты что
это, девка,
никак опять
карболкой пол
моешь? Как
сортир все
равно — не продыхнешь.
—
Потерпите,
дедушка, не
отравитесь.
Зато никакой
другой
хворобы,
кроме своей
собственной,
к вам больше
не пристанет.
Не верите?
Хоть у
доктора
спросите.—
Огляделась,
лукаво
прищурилась:
— Как тут мой
Ленчик,
живой? —
Ленька
сердито
отвернулся к
стенке.— Вишь
застеснялся.
А я замуж за
него
собралась...
— Пошла
ты...— не
утерпел
Ленька.
— Голос
подал.
Значит, все в
порядке, дело
на поправку
пошло. Люся
поставила
ведро на пол
посреди
палаты,
вынула из
пенной воды
тряпку,
выжала и,
натянув на перекладину
«лентяйки»,
начала
шуровать ею
под
Ленькиной
койкой:
—А ты
знаешь,
Ленчик,
сердитый
человек, как припадочный,
он дольше
болеет, а
веселый —
наоборот
быстро поправляется.
А почему?
Потому что у
сердитого
человека
кровь
сердитая,
темная такая,
медленно по
жилам течет,
а у веселого
и кровь
веселая,
шустрая, она
быстрей
болезнь прогоняет.
Не веришь? Ну
и не верь.
Подумаешь,
надулся, и
разговаривать
не хочет. Ну и
не разговаривай.
—И не
буду.
- И не
разговаривай,
сам опосля
жалеть будешь,
а я тебе
слова не
скажу.
— А ты
чего
насмехаешься?
—
Смотри-ка ты
какой важный.
— Ничего
не важный, а
насмешничать
нечего.
— Ладно,
не буду
больше. Давай
помиримся.
— Давай,—
снисходительно
согласился
Ленька и,
пожимая
влажную
Люсину руку,
увидел в распахнутых
карих глазах
девушки
лукавые
смешинки.—
Опять
обманываешь?
— Не
сойти мне с
этого места.
Честное
пионерское
под салютом
— Ты не
пионерка.
— Ну и что?
Я была
пионеркой.
Попробуй-ка
разберись,
всерьез она
или просто
так... Почему-то
вспомнилось,
как первый
раз при нем
Люся пришла,
убирать в
палате
(Ленька
только-только
начал
отходить
после
беспамятства),
увидела его и
сделала
большущие глаза:
—А ты
тоже болеешь?
Ленька слабо
кивнул. Люся
неожиданно
вздохнула и
простодушно
созналась:
— А я
сперва
подумала —
братик
сродный. Ага... Васька.
У него волосы
точь-в-точь
как у тебя —
торчком.
Только
гляделки
черные, а у
тебя рыжие,
как у кота.
— Сама ты
рыжая...
— Ну, не
рыжие, так
желтые,—
поправилась
Люся.— Все
равно
красивые.
Тебя как
звать?
— Ленька.
Лукавые
смешинки
запрыгали в
ее глазах.
— По
ласкательному
Леня, нет,
Ленчик. Он
возмутился:
— Не
Ленчик, а
Ленька.
—Ленчик
лучше, ласкательней.
Так и стала
звать его
Ленчиком. Он
и сердился и
не сердился.
Если по
правде, не
мог он на нее
сердиться,
ведь она
прямо-таки
шефство над
ним взяла.
Каждое утро,
приходя на
работу, обязательно
приносила
какой-нибудь
гостинец: или
кулек
дешевых
сосательных
карамелек,
или печенье,
или помидор.
Однажды принесла
полную, с
верхом,
литровую
банку ярко-красной
крупной
виктории — он
такой и в глаза
никогда не
видывал.
Сказала:
—С
бабушкиной
грядки
нарвала.
Специально для
тебя.
Попробуй. Ты
только не все
сразу ешь, пополам
раздели, а то
живот
заболит. Где
уж там делить
пополам,
когда
возьмешь ее в
рот и зажмуришься
от
удовольствия
— до того она сочная
да сладкая
эта ягода
виктория; не
заметил, как
на дне банки
одна,
последняя,
ягодка
осталась,
подумал и
съел
последнюю.
Стал ждать,
когда
забурчит в
животе. Не
забурчало,
обошлось.
Глава 4
Дед Леонтьич
все-таки
уговорил
докторшу —
выписала долечиваться
домой,
снабдила
пачкой
рецептов и
велела
обязательно
соблюдать
режим, не перетруждаться.
Обрадованный
старик лишь
согласно
кивал в
ответ, а
после, как бы
оправдываясь,
говорил
Леньке:
— Тута
одни
пролежни выпестывать,
а таблетки я
и дома сглотаю.
В своей избе,
паря, родные
углы
вылечивают.
А Леньку
болезнь не
хотела
отпускать,
вечерами ни с
того ни с
сего еще
поднималась температура,
и докторша
боялась, как
бы не приключилось
какого
осложнения.
Да он и не просился...
Без Леонтьича
стало совсем
скучно.
Глухой Шубин,
как всегда,
молчал,
уткнувшись в
газету или
книгу, лишь
изредка
подавал
голос. Он,
оказывается, хоть
и не слышал,
но по губам
почти все
понимал, что
говорили.
Теперь
верховодил в
палате
старец Федор,
он, видать,
всерьез
решил
заняться Ленькиным
воспитанием
и потому
направо и налево
сыпал
нравоучениями.
Уже на другой
день, как
выписался Леонтьич,
он
остановился
перед
Ленькой и
категорически
заявил:
—Ты,
Леонид, еще
не умеешь
думать.
И
замолчал,
наблюдая,
какое
впечатление
произвели
его слова.
Ленька же
решил, что у
старца
Федора и
вправду не
все дома,
потому что
такое
нормальный
человек
никогда не
скажет. «Не
умеешь
думать!..»
Надо же! Да
любой
дошколенок про
себя уже
всякое
думает.
А старец,
будто
догадываясь
о Ленькиных
мыслях,
продолжал:
—Ты,
конечно,
считаешь, что
умеешь, но
это тебе
только
кажется
— Ничего
мне не
кажется,—
возразил
Ленька.
—Кажется,—
веско повторил
старец.—
Уметь думать
не каждому дано.
Это... это,
можно
сказать,
главное. У
думающего
человека
есть цель в
жизни, он
никогда не
забывает о
ней, все
время к ней
стремится и
добивается
своего.
Возьмем, к
примеру, тебя.
Как ты
собираешься
жить дальше?
Ленька
хотел было
возразить,
что это его
личное дело,
как ему жить
дальше, но
вдруг до него
дошло:
старец-то
правду
сказал. Он
ведь и в
самом деле ни
разу не
задумывался
о будущем,
некогда было
думать и не
думалось
почему-то;
наверное,
потому, что
он не
представляет
себе, каким
оно будет или
каким оно
должно быть,
его будущее.
— Не
задумывался?
Значит, не
умеешь
думать,— не
услышав
Ленькиного
ответа,
категорично
сказал
старец.— А
надо. Ты же
сам хочешь делать
свою судьбу.
А как ты ее
сделаешь,
если не знаешь,
какой она
должна быть,
а?
— Все
равно
сделаю,—
упрямо
насупился
Ленька.—
Сделаю, вот
увидите!
— Дай-то
бог... Старец
вздохнул и
больше не донимал
его. А Ленька
решил
действовать
без промедления.
Чтоб никто не
мешал, взял
принесенную
Люсей книжку
про индейцев,
забрался в
самый
дальний угол
больничного
сада под
черемуху и
стал думать. Перво-наперво,
как приедет
из больницы
домой, он
начнет жить
по-новому.
Как? Как жил,
только… без
мамы. С
отчимом и
Витькой.
Трудно им
будет, одним
мужикам, да
ничего не поделаешь.
Ему придется
взять на себя
работу по
дому, потому
что отчим пол
или там посуду
мыть не
станет, не
привык он
такими женскими
делами
заниматься,
он... И вдруг...
Леньку обдало
холодом. А
что? Он
возьмет и
скажет: валяй
на все четыре
стороны. А у
Леньки ни
бабушки, ни
дедушки,
никаких
других родных
во всей Заихе
и вообще
нигде нету,
не к кому
притулиться. И
денег пока
сам не
зарабатывает,
не умеет потому
что. Он бы
сумел, да на
работу его
никуда не
возьмут — мал
еще...
От таких
мыслей стало
совсем грустно,
но тут над
самым ухом
угрожающе занудил паут,
самое
вредное на
свете
насекомое, от
его укусов
моментально
вспухают
волдыри, они
долго болят и
чешутся. Этот
оказался
самый вредный
из вредных,
такой
упорный, что
устала рука
от него
отмахиваться.
Фу, кажется,
улетел.
Паут улетел, и
«думное
настроение»
улетело вместе
с ним. Прав
старец Федор,
ни к чему не
способный
Ленька
человек,
ничего
путного не может
придумать
для своей
жизни. А что
придумаешь?
Он и так
знает, не
шибко
веселая будет
у него жизнь,
о ней и
думать не
хочется, хоть
ты что делай.
Ладно, в
следующий
раз еще
попробует
что-нибудь
стоящее
придумать, а
сейчас...
открыл книжку
и зачитался
приключениями
Оцеолы,
благородного
вождя
краснокожих
индейцев
славного
племени семинолов.
Так он
ничего и не
придумал, и
чувствовал
он себя
поэтому очень
даже неважно.
Ночью
снилась мама,
она гладила
его по
спутанным
вихрам и
спрашивала:
—Как ты
будешь жить
дальше,
сынок?.. Он
неопределенно
пожал
плечами, а
она сказала:
— Учись.
— Как? —
спросил он,
но она не ответила,
исчезла; он
проснулся,
так и не узнав,
как нужно
учиться жить
дальше.
Начинало
рассветать.
Белый
полумрак
палаты
заполнял
стойкий, с
надрывом,
храп Шубина.
Тонко
посвистывал
во сне старец
Федор. Четвертая
койка была
пока
свободна. В
открытую форточку
густо тянуло
влажной
черемуховой
свежестью.
Где-то,
должно быть,
в тесных ветвях
тополя под
окном,
неуверенно
пискнула какая-то
птичка и
замолкла:
видно,
поняла, что
еще не время
просыпаться.
Ленька лежал
с открытыми
глазами,
смотрел в
потолок и
ничего не
видел; по
щекам его
текли слезы.
Наконец-то
и его
выписали
домой. В
палату пришла
Люся и увела
к
сестре-хозяйке;
он переоделся
в свою одежду
и как-то
стеснённо
себя почувствовал
— за три
недели
привык к мешковатой
больничной
пижаме. Люся
придирчиво оглядела
его со всех
сторон:
— А ты,
Ленчик,
ничего
парнишечка.
Смотришься.
— Сама ты
парнишечка,—
огрызнулся
Ленька.
—Ох, и
глупый ты —
шуток не
понимаешь,—засмеялась
она.— Лучше
причешись, а
то совсем распатлатился.
Он молча
взял у нее
расческу и
стал причесывать
свои
торчащие во
все стороны
волосы,
спорить не
стал. А что
спорить? Он и
вправду не
шибко умный,
если просто
так без пользы
коптит белый
свет и не
знает, что
его ждет
завтра. Ей он
втайне
завидовал,
она уже, считай,
взрослая и
точно знала
про свою
будущую
жизнь.
Три дня
назад она
неожиданно
спросила его:
— Ты,
когда
вырастешь,
кем будешь?
— Не
знаю,— честно
сознался он.
— Эх ты! А я
— доктором.
Буду
ребятишек
лечить таких
вот, как ты. Я
специально
работать в больницу
попросилась,
чтоб
разузнать про
все. Сперва в
техникум
поступлю,
опосля в
институт.
Ага.
Она
настырная,
обязательно
добьется
своего.
Надоела
Леньке
больница.
Особенно в
последние
два дня тошно
было, когда
держали его тут,
как сама
докторша
Наталья
Ивановна сказала,
для
профилактики
и чтоб
окончательно
убедиться в
его выздоровлении,
он уж хотел
самовольно
удрать домой,
да сообразил,
что в пижаме
далеко не удерешь
— первый
встречный
милиционер
сцапает за
широкие
штаны и
приведет
обратно. Теперь
же, став
свободным, он
растерялся,
ему и хотелось
и
расхотелось
домой, даже
как-то страшновато
сделалось.
Люся сказала:
— Пойдем,
я тебя
провожу на
электричку.
— Сам
дорогу найду,
— неуверенно
буркнул он.
Она молча
взяла его за
руку. Пошли.
Привела в
больничный
сад, усадила
на скамейку:
—
Посидим пока.
Электричка
не скоро еще
— успеем на станцию.
Люся была
непривычно
задумчивая, тихая,
без
всегдашних
своих
лукавых
смешинок в
глазах. Он
настороженно
поглядывал
на нее.
— Ну, чего
смотришь? —
нахмурилась
она и вдруг
спросила
тихим
грустным
голосом: —
Лень, а у тебя
родные в Заихе
есть?
— Нету.
—
Никого-никого?
— Только
отчим и...
Витька,
братишка.
— А отчим
шибко злой?
Ленька
неопределенно
пожал
плечами:
— Не знаю...
Может, злой,
может, нет...
— «Не
знаю»,
«может»... —
передразнила
Люся. — Зарядил,
как попугай.
— И опять
участливо: —
А он не дерется?
— Не-ет...
— Тогда
еще ничего,
жить можно.
Если он драться
полезет, ты
не
поддавайся.
Слышишь?
— Слышу.
— То-то... Я
проверю.
Думаешь, вру?
У меня в Заихе
подружка
живет. Таня Климина,
рыженькая
такая. На почте
работает.
Знаешь?
— Угу...
—Я к ней
приеду и
разузнаю. Я
ему покажу,
как над
сиротой
изгаляться. У
отчима
Евстигнеев
фамилия?
—Евстигнеев...
Она,
выходит, все
знает, а ведь
он ничего не
рассказывал...
Они сидели на
скамейке в
больничном
саду и вели,
как умели,
нешуточный
разговор о
будущей Ленькиной
жизни. На
него что-то
нашло, не иначе,
он так
разоткровенничался,
что всю душу свою
излил, ничего
не утаил
перед ней.
Она слушала
его
терпеливо,
серьезно,
большие, широко
распахнутые
глаза ее
участливо светились.
Не успевшее
распалиться
солнце пеленало
их своим
теплом и
светом, едва
слышно
шелестела
листвой
черемуха.
Хорошо, когда
много солнца
и света...
А на
электричку
идти не
пришлось. К штакетному
забору
палисадника
возле
поликлиники,
тяжело
волоча завесу
пыли,
подвалил
неуклюжий
«КрАЗ» и, натужно
фыркнув,
остановился;
вместо
кузова у него
серо-зеленая,
заляпанная
прошлогодней
грязью
фанерная
будка, на
лобовом
торце ее
раскоряченные
белые буквы
«Люди». На этом
«КрАЗе»
обычно
возили
рабочих в
лес, а теперь
он заменил «ПАЗик»,
потому что
Булыгин
все-таки изнахратил
автобус на
своем покосе,
трактором
притащил в
деревню, и
теперь он
стоял в
гараже на ремонте.
Степан же с
видом
праведника
ходил по
гаражу, во
все
печенки-селезенки
и разных боженят
материл нерадивого
снабженца
Федьку
Калитина по
прозвищу Бутылек,
нерасторопного
механика и
попутно
начальника
участка за
то, что те не
могут
достать
нужные
запчасти и
обеспечить
ему фронт работы.
Обо всем этом
Ленька
услышал от
всезнающих зайских
баб в тряской
и душной от
жары и пыли
будке по
дороге
домой...
Глава 5
Он вылез
из муторной
духоты будки
на конечной
остановке
возле
столовой, а
мог вылезть
раньше, там,
наверху, у
проулка, где
обычно сходят
все, кому не
терпится
забежать в
магазин и кто
живет на
верхних улицах,
оттуда и
Леньке до
дома рукой
подать, но в
момент, когда
нужно было
выходить, у
него словно
что-то
застопорилось
внутри, и он поехал
дальше.
«КрАЗ»
пропылил в
гараж, а
Ленька
тоскливо глядел
на кое-как
сколоченную
лестницу с шаткими
неокрашенными
перилами,
взбиравшуюся
по крутому
косогору к
броско
голубой
приземистой
конторе под
разлатой
шиферной
крышей, и ему
почему-то казалось,
что приехал
он хоть и в
родную, но чужую
деревню. Он
проголодался
и втайне надеялся
застать в
столовой
отчима и
поесть вместе
с ним, но
обеденное
время
истекло, рабочие
с нижнего
склада уже
отобедали и
уехали
обратно,
отчим,
конечно же,
уехал с ними,
так что
рассчитывать
было не на
кого и не на что.
Раньше,
бывало,
Ленька смело
приходил в столовую
и повариха
Нина
Прокопьевна
кормила его,
а мама после
расплачивалась.
Теперь никто
расплачиваться
за его обеды
не станет.
Вообще-то,
если
обратиться к
Нине Прокопьевне,
она накормит
и так, она
добрая, но
Ленька
никогда
попрошайкой
не был и никогда
не будет,
выходит,
делать ему
тут нечего.
До
болезни он
одним махом
без отдыха
взбегал по
лестнице к
конторе — и
хоть бы что, а
сейчас не
бегом, но
быстрым
шагом
поднялся до середины
и
остановился,
запыхавшись.
Подождав,
пока
сердцебиение
успокоится
немного, он
уже не
торопясь,
одолел оставшиеся
ступеньки и
побрел домой.
Еще
издали
приметил:
калитка
распахнута, значит,
Витька
болтается
где-то по
деревне или
на речке с
мальчишками.
Он такой
безалаберный,
что диву
даешься.
Несчастья
подстерегают
его на каждом
шагу. Одной
посуды он столько
перебил, что
другому за
две жизни не
перебить. Или
эта
злосчастная
калитка. Ему
все время талдычат,
что калитку
надо
закрывать, он
шмыгнет
носом, кивнет
согласно,
убежит на улицу,
а калитку
обязательно
не закроет,
забудет, и во
двор
обязательно
проберется
чей-нибудь
неприкаянный
теленок и
обязательно
стянет с
веревки и
сжамкает
какую-нибудь
тряпку или
там простыню
или
наволочку. Вот
и сейчас
пожаловал
чей-то
пестрый
бычок с уже
оформившимися
рожками,
положил прямо
у входа в
калитку
жидкую
лепеху,
улегся в тени
поднавеса
возле
поленницы
дров и спокойненько
жует свою
нескончаемую
жвачку.
Ленька в сердцах
понужнул
бычка
хворостиной
со двора,
поддел
лопатой
лепеху,
выбросил на
улицу.
На
сенной двери
висел литой
замок и в нем
торчал ключ —
это Витька
так запер
избу. «Ну,
подожди,—
мысленно
пригрозил
Ленька, —
придешь
домой, я тебе
покажу». И
тут же подумал,
что ничего-то
ему не
покажет, даже
пальцем не
тронет,
потому что
соскучился
по Витьке и
будет рад-радешенек
увидеть
своего
непутевого
братца, а тот,
чертенок, как
нарочно,
запропастился
куда-то и
неизвестно
теперь, когда
явится. И
оттого, что
придется
ждать его
возвращения,
радость
потускнела,
шевельнулась
непрошеная,
глубоко затаившаяся
обида: за все
время никто
ни разу не
приехал в
больницу
проведать,
как он там,
может, и в
живых давно
нету, а
вернулся
домой — до
него никому
нет дела,
даже родной
братец не
встретил и
удрал из
дому. Ленька
понимал,
Витька не,
виноват, он
же не знал о
его приезде,
понимал, а
все равно
было обидно.
Ленька
вытащил из
пробоя замок,
потянул на
себя дверь и
встревожился:
показалось,
будто сейчас,
сию минуту
что-то случилось,
а что — никак
не мог
сообразить. И
наконец
сообразил:
дверь-то не
взвизгнула!
Все-таки
исполнил
отчим мамину
просьбу,
смазал дверные
петли
солидолом...
В избе
было все так,
как раньше, и
все не так.
Середину комнаты,
как и раньше,
занимал
старый
круглый стол,
обычно
застеленный
белой
вязаной скатертью
поверх
цветастой
клеенки,
теперь же
скатерти не
было, а была
лишь одна
клеенка,
тусклая,
поблескивающая
широкими
глянцевитыми
мазками от
тряпки. Куда
ни глянь — пыль,
мусор, окурки
и горелые
спички по
углам. В
кухне —
эмалированный
таз с грязной
посудой,
возле
умывальника
полное ведро
вонючих
помоев;
сквозь окно,
задернутое
серой от пыли
занавеской,
сочился
мутный
солнечный
свет. И
унылый
надсадный
стрекот
настенных
часов...
Это были
мамины часы,
она по ним
следила за временем,
когда
готовила еду.
Они достались
ей в
наследство
от ее мамы,
Ленькиной
бабушки, и
всегда
висели в
кухне. Раз в
неделю мама
заводила их
ключом, любовно
обтирала
мягкой
тряпочкой
облупившиеся
бока,
приговаривая:
—Мои
славные
часики. В
ответ они
равнодушно
тикали. Мама
укоризненно
вздыхала:
—Бесчувственные
вы... Они
продолжали
тикать.
Ленька
глянул на
часы, потом
посмотрел на
грязную
посуду в тазу
и грустно
вздохнул,
потому что не
кому-нибудь,
а ему
придется
мыть ее. И
вообще,
наводить порядок
в избе — мало
радости.
Ленька не знал
ни одного
мальчишки в Заихе,
которому
нравилось бы
заниматься
таким девчоночьим
делом. Хоть
бы Витька
быстрей явился,
все бы
чуточку
помог
прибраться.
Ленька
домывал пол,
когда Витька
ошалело ворвался
в дверь, чуть
не опрокинув
помойное
ведро:
—Братка-а!..
- заорал во
весь голос и
обслюнявил
ему щеки.
— Ну,
хватит,
хватит
лизаться,—
неловко отстранился
от него
Ленька.— Ты
где это
пропадал?
- Я на
речке
купался. Уй,
здорово!
Побежим!..
— Куда?
—
Купаться!
 Вот
он всегда
такой,
Витька,
никакого
сладу с ним,
все бегом,
бегом,
никогда не
угадаешь, какой
номер
отмочит он
через минуту.
Нынче осенью
в школу, а он
ни одной
буквы не знает,
в детсаде
пытались
вдолбить ему
азы грамоты —
и все без
толку, Ленька
дома пробовал
— бесполезно,
секунды не
может
посидеть спокойно,
сосредоточиться,
точно внутри
у него вертун
какой, все
ему надо
куда-то бежать.
А так он —
ничего
мальчишка,
безобидный,
не жадный,
последнюю
рубашку с
себя отдаст,
только носом
шмыгнет.
Привычка у
него — носом
шмыгать.
Вот
он всегда
такой,
Витька,
никакого
сладу с ним,
все бегом,
бегом,
никогда не
угадаешь, какой
номер
отмочит он
через минуту.
Нынче осенью
в школу, а он
ни одной
буквы не знает,
в детсаде
пытались
вдолбить ему
азы грамоты —
и все без
толку, Ленька
дома пробовал
— бесполезно,
секунды не
может
посидеть спокойно,
сосредоточиться,
точно внутри
у него вертун
какой, все
ему надо
куда-то бежать.
А так он —
ничего
мальчишка,
безобидный,
не жадный,
последнюю
рубашку с
себя отдаст,
только носом
шмыгнет.
Привычка у
него — носом
шмыгать.
Вдвоем
они быстро
управились с
уборкой и подивились,
как светло
зажелтел,
подсыхая, пол,
как щедро
лилось
солнце в
распахнутые
настежь окна.
Отчим
пришел, когда
завечерело.
Еще не видя,
но слыша его тяжелые
шаркающие
шаги во
дворе, Ленька
догадался,
что он крепко
выпил.
Раньше, при
маме, Ленька
в таких
случаях
скрывался
куда подальше,
чтоб не
видеть
блаженной
физиономии
отчима, не
слышать его
противной
матерщины и
пьяного
бахвальства,
а теперь он растерялся,
не знал, что
делать. Так и
подмывало
сигануть в
раскрытое
окно, но он
остался на
месте — будь
что будет. А
шаги уже в
сенях,
нетвердая
рука
нашаривала
дверную скобу.
Сейчас он
ввалится... И
тут мелькнула
нелепая
мысль: а как
его называть?
Ведь Ленька
не звал его
ни отцом, ни
дядей
Трофимом
никак не
звал, у него
для отчима не
было имени.
Спьяну
он сперва не
узнал
пасынка.
Упершись
руками в
стол, чтоб не
упасть, он
уставился на
него тяжелым
бессмысленным
взглядом и,
лишь дважды
мотнув
кудлатой башкой
(кепку,
видать,
потерял
дорогой),
глубокомысленно
промычал
что-то
несвязное, с
трудом
выдавил:
— Ты?..
- Я...- тихо
ответил
Ленька, а сам
невольно
покосился на
раскрытое
окно.
-
Выздоровел,
значит?..
- Выздоровел.
— Та-ак,
значит... А где
Витька?
— Дома.
Спит он.
— Я... я
тоже спать, а
ты, значит,
ты...— Отчим не
договорил,
плюхнулся на
стул и,
неопределенно
махнув рукой,
уронил
голову на
стол. Мгновенно
захрапел.
Ленька с
опаской
посмотрел на
спящего — уж
не притворяется
ли? Отчим
храпел так
самозабвенно
и так
забористо,
что, кажется,
разбери его
по частям —
не проснется.
Глава 6
Витька
высунулся из
открытого
окошечка, что-то
крикнул на
прощанье,
что, Ленька
не разобрал,
потому что
как раз в
этот момент
шофер
газанул,
«КрАЗ» густо
пыхнул синим
дымом и тронулся
с места.
Отчим с
Витькой
поехали в город
встречать
Витькину
бабушку, а
Леньку с
собой не
взяли.
Вообще-то ему
не больно-то
и хотелось
ехать с ними,
ведь баба
Вера только
Витьке
бабушка, а
Леньке она
чужая и он ей
тоже чужой.
Давно-давно,
когда Витька
еще не
родился, они
все втроем,
отчим, мама и
он, гостили у
нее. Сперва
они целую
ночь и еще
полдня ехали
к ней на
поезде, потом
на электричке,
а после на
автобусе.
Баба Вера жила
с дочерью и
двумя
внучками-погодками,
Танькой и Люськой,
долговязыми
рукастыми
девчонками.
Старшая,
Танька, уже
окончила
первый класс
и считала
себя умной,
воспитанной
девочкой, она
сразу же
принялась
воспитывать
Леньку. Это ему
очень даже не
понравилось,
два дня он мужественно
терпел, а
когда на
третий день,
решив
наказать его
за
непослушание,
она ловко
вцепилась
ему в ухо, он,
не долго
думая, влепил
ей такую плюху,
что она
заорала во
все горло. На
крик ее немедленно
явилась баба
Вера,
половчее внучки
схватила его
за ухо и
наградила горячим
липким подшлепником,
он в ответ
изловчился и
цапнул ее за
руку. Она
вскрикнула:
—Ах ты,
пащенок!..— И
замахнулась
вторично, но
он вырвался и
сиганул в
калитку.
Назавтра
они отбыли
домой и с той
поры ни разу
не гостили у
бабы Веры. А
она дважды
приезжала к
ним в Заиху.
Первый раз —
когда Витька
родился,
второй —
когда Витьке
исполнилось
четыре года.
Леньку она
недолюбливала,
и ему тоже не
за что было
ее любить,
так что
предстоящий
приезд ее
нисколько не
радовал.
«КрАЗ»
ушел; осела
на дорогу
пыль; Ленька
стоял возле
столовой —
идти домой не
хотелось.
С тех пор,
как неделю
назад он
вернулся из больницы,
жизнь его
сделалась
какая-то непонятная.
Дома он не
чувствовал
себя дома.
Ему все время
казалось, что
за ним кто-то
подглядывает,
он всё ждал
чего-то,
что-то должно
случиться, а
что именно —
он не знал, и
оттого
тревожно ему
было. По
утрам он
просыпался
от ощущения,
что на него
кто-то
смотрит, и,
открыв глаза,
видел смурную
физиономию
отчима и ему
становилось
не по себе. А
отчим
отводил
колючий свой
взгляд в
сторону,
бормотал
сипло:
—Ты это
того, значит,
смотри за
Витькой. Завтракайте.
В
холодильнике
— молоко.
Обедать в
столовку
сходите —
рубль на
столе.
Отчим
уходил на
работу, а
Ленька с
Витькой оставались
домовничать.
Прибирали в
избе — и на
этом их трудовая
деятельность
кончалась.
Правда, при
желании дело
нашлось бы,
ну, хотя бы в
огороде. Без
мамы он весь
зарос травой,
в нем крепко
похозяйничал
Витька со
своими
дружками и,
видать,
мальчишки с
соседней
улицы не раз
устраивали
на него
облаву,
потому что на
грядке с
горохом
стелился
ворох жухлых,
вырванных с
корнями,
пустых
гороховых
стеблей, а в
парнике не
то, что
огурцов — ни
одной живой
огуречной
плети — всё
смято, изуродовано.
Нынешней
весной отчим
с мамой не
съездили на
базар за
поросятами —
денег не
накопили,
вместо
поросят
завели
кроликов, решили,
что дешевле и
выгоднее —
прокормить
легче, однако
пока Ленька
лежал в
больнице,
кроликов
отчим
ликвидировал,
заодно и корову
Буренку
продал и
теперь
пьянствовал в
свое
удовольствие.
Ленька
слышал, как
соседка
тетка Минаиха
говорила
своей
задушевной
подружке:
—Гли-ка,
Матрена,
Трофим от
опять на
бровях домой ползеть,
видать, еще
не всю корову
пропил. И не
отрыгнется
паразиту...
На
подворье
осталось
полдюжины
куриц с огненно-рыжим
петухом во
главе. За
ними особого
догляда не
требовалось,
они сами себя
кормили, так
что братьям
дела не
находилось, а
отчим не
давал им
никаких
нарядов.
У Витьки
полно друзей,
таких же, как
он, голопятых
пацанов, они
свистом
вызывали его
на улицу, он
немедленно
мчался на
зов, а Леньке
оставалось
только
закрыть
калитку — не
бежать же
следом за ним
играть с
малышней!
Скучно,
неуютно
Леньке
одному.
Лучший друг его
Сенька Пудов,
с которым он
постоянно ходил
на рыбалку,
обменивался
интересными
книжками и
вообще они
друзья
давние, с
детского
садика, уехал
к бабушке на
все лето, как будто
бабушкина
деревня
лучше родной Заихи.
Был еще
Петька
Широков, с
ним Ленька не
то чтобы
дружил, но
поддерживал
отношения.
Петька любил
читать,
книжками
снабжал его
старший брат
Павел,
которого еще
в зайской
восьмилетке
прозвали
«профессором»,
и вовсе не
потому, что
он носил
очки, а
потому, что
много читал и
много знал
такого, чего
ни на каких
уроках
учителя не
рассказывают
и чего нет в
школьных
программах.
Павел учился
в городе на
прокурора,
покупал
много книг, а
Петька по
величайшему
исключению и
дружбе
некоторые из
них, в
основном про
милицию и
фантастику,
давал читать
Леньке. Вообще-то
Петька хоть и
любил читать
книги, но больше
его
интересовали
машины,
совсем без ума
от них он
стал
нынешней
весной, когда
отец подарил
ему мотоцикл
«Восход».
Петька
выучился
ездить на
нем, клялся и
божился, что
может
разобрать и
собрать его
без посторонней
помощи, но
надобности
такой пока не
предвиделось
— мотоцикл-то
новый! — и он гонял
на нем по
кривым
улицам Заихи
— только пыль
заполошно
вздымалась
следом да мелькала,
убегая от
этой пыли,
красная, как
стоп-сигнал,
Петькина
каска. Петька
запросто катал
Леньку на
своем
«Восходе» и
всякий раз,
горделиво подбоченясь,
спрашивал:
— Ну, как?
—
Здорово! —
без особого
энтузиазма, но
вполне
искренне
отвечал
Ленька.
— То-то!..
Петькин
отец, главный
помощник
начальника —
технорук, не
только
мотоцикл,
машину сыну
купит, если
захочет, а
Леньке
надеяться не
на кого и,
если уж
откровенно,
не нужно ему
ничего.
Правда,
иногда
немножко
завидно — у
некоторых
мальчишек в
школе есть
уже свои
мотоциклы и
разъезжают
они на них по
всей деревне,
как ошалелые,
того и гляди
расшибутся, а
вечерами, как
стемнеет,
вместе со взрослыми
парнями
ездят
шерстить
дачи на Дунькином
хуторе.
Как-то Петька
предложил
Леньке
поехать
вместе с ним.
— Нет, не
поеду,—
отказался он.
—
Трусишь, да?
— Ничего
не трушу.
Воровать не
хочу.
—Подумаешь,
воровство! Ты
лучше скажи,
кто их,
дачников,
звал сюда? От
них вон житья
нету — весь
лес
захватили.
—Тебе
лесу мало, да?
— Мало. Батяня
говорит,
раньше,
бывало,
пойдешь в
тайгу— ягод,
грибов
навалом. А
сейчас все
дачники подметают.
— А наши
пускай не
спят.
Петька
косо глянул,
однако
промолчал, даванул
ногой на
педаль
стартера, и
когда
мотоцикл сдержанно
заурчал,
небрежно
проговорил:
—Не
хочешь, как
хочешь — дело
хозяйское...
Сейчас, у
столовой,
Ленька
вспомнил об
этом и
почему-то с
грустью
подумал, что
дружба с Петькой
кончилась. И
только он
подумал так —
сбоку
послышался
рокот
мотоцикла.
Легкий на
помине,
Петька, сияя
красной
каской,
подкатил к
нему и, резко
затормозив,
остановился.
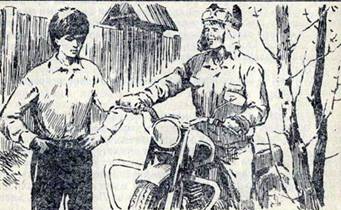 —
Привет! —
Небрежно
вынул правую
руку из отцовской
кожаной
перчатки с
раструбом,
протянул
Леньке.— Как
жизнь? Ждешь
кого?
—
Привет! —
Небрежно
вынул правую
руку из отцовской
кожаной
перчатки с
раструбом,
протянул
Леньке.— Как
жизнь? Ждешь
кого?
— Нет,
дядьку
Трофима с
Витькой
провожал. Поехали
в город
Витькину
бабушку встречать.
—
Ясненько.
Значит, в
детдом затурить
хотят. Это
точно. Затурят.
— Ты что? —
вздрогнул
Ленька и
смутная
догадка
прокралась в
сердце.— Ты...
ты врешь!
— Я? Вру? У
кого хошь
спроси. Об
этом вся Заиха
знает. Наша
директорша о
тебе
хлопочет. А ты
— «врешь»...
Петька,
конечно, не
врал, Ленька
верил ему, но
от одной
мысли о
детдоме ему
становилось холодно...
Петька
неожиданно
спросил:
—А
правда, мать
тебе избу
отписала?
Ленька
ничего не
понял,
недоуменно
пожал плечами.
—Ты что,
не знаешь? Ну
даешь! Ливанихе
в сельсовете
сказали.
Тетка Марья
еще в прошлом
годе
отписала,
потому что,
говорит, в случае
чего о тебе
некому будет
позаботиться,
а Витька,
говорит, не
пропадет, у
него родной
отец есть.
Нет,
ничего этого
Ленька не
знал и мама
ему ничего не
говорила, из
Петькиных же
слов он
ничего
толком не
понял. Когда
мама была
жива, у них в
семье никогда
никто не
заикался о
доме, само
собой разумелось,
что дом, в
котором они
живут, их общий
дом. И вдруг...
Петька
нагловато
присвистнул,
снисходительно
похлопал его
по плечу.
Сказал
назидательно:
—Ты, в
общем, не
теряйся.
Начнет отчим
заедаться —
ты его гони в
шею. Понял? Ты
— хозяин. Законно!..
А у брата я
все разузнаю.
Если человек
не хочет в
детдом,
насильно не
имеют права...
Точно тебе
говорю.
Лучше б
Петька ничего
не говорил…
Горделиво подбоченясь,
он помахал
своей
мужественной
рукой в отцовской
кожаной
перчатке и
укатил по
каким-то
своим
неотложным
делам. Ленька
в совершенной
растерянности
остался
возле столовой.
Глава 7
И как он
не догадался
раньше? Ведь
это же так
просто, все
равно, что
перейти
через дорогу
или сорвать в
огороде
морковку. Да.
да... Он сейчас
пойдет в
контору и
потребует, чтоб
начальник
взял его на
работу. А что?
Ленька сам не
раз слышал: и
по телику
показывали, и
по радио
передавали, и
так все
кругом
говорят, что
труд должен
быть самым
главным
предметом в
школе,
трудовое воспитание
называется. И
правильно,
что трудовое,
а то у всех
мальчишек
одно
баловство на
уме. Вместо
баловства
работать
надо, по-правдашнему.
Это же
здорово! Вон
позапрошлой
весной они
всей школой
на
лесопосадки
ездили,
лесхозу
помогали, так
нынче на тех
вырубках,
говорят,
сосенки одна
к одной, чуть
ли не по
колено уже,
да такие
веселые,
пушистые...
Вырастут они,
и польза от
них всем
людям. И сам
собой
выстроился
перед глазами
зеленый и
светлый рыжествольный
сосновый бор,
будто въяве услышалось
разноголосье
лесных птиц и
напахнуло
ядреным
ароматом
хвои. У
Леньки аж дух
захватило,
боком
прислонился
к шершавому
голубому
штакетнику
конторского
палисадника
с
неряшливыми
ромашками на клумбах-булыжинах
автомобильных
скатов и
хилыми
березками и
елочками,
зябко
торчащими из
переспелой сорной
травы.
Постоял так,
собираясь с
мыслями.
К
счастью, задавалистой
Тоськи
Сидоркиной,
бессменной
машинистки,
рассыльной и
секретарши
начальника,
отчего-то
недолюбливавшей
зайских
мальчишек, на
месте не
оказалось,
убежала в
магазин, куда
привезли
вчера
сверхмодные импортные
кофточки.
Ленька
опасливо
покосился на
ее
обмызганный
столик с
облезлой пишущей
машинкой
«Башкирия»,
одиноко печалившейся
у стенки
возле окна,
тихонько
приблизился
к обитой
чешуйчатым,
коричневым
дерматином
двери
кабинета;
чуть
помедлив,
неуверенно
нажал на
никелированную,
как у
автобуса,
ручку. Дверь
неожиданно
легко и
бесшумно
раскрылась;
Ленька
шагнул
вперед.
Когда-то
теперешний начальник
участка
Ефрем Евсеич
и Ленькин
отец были
друзьями, об
этом не раз
говорила
мама, да и сам!
Ленька хоть и
смутно, но
помнил, дядя
Ефрем
приходил к
ним домой,
угощал
конфетами.
Тогда он был
простым работягой
—
трактористом,
а теперь вот
самый главный
человек во
всей Заихе,
теперь к
нему, как
ехидничают
языкастые бабы,
на вороных не
подъедешь.
Леньке
всякие ехидства
до лампочки,
вороные тоже
ни к чему, но
он все-таки подрастерялся,
очутившись
перед
начальником.
А тот даже не
заметил его
появления — так
был занят:
толстым
веснушчатым
пальцем левой
руки тыкал в
цифры на
листке
бумаги, а не
менее
толстыми и не
менее
веснушчатыми
правой —
неумело
щелкал
сухими
костяшками
на счетах.
Наверное, у
него что-то
не ладилось с
подсчетом,
потому что он
то и дело хмурился,
отчего на
высоком, в
россыпи
веснушек, залысом
лбу его
возникали
две ломкие
морщины и сходились
к переносице
густые
белесые
брови.
— М-мда-а...—
неопределенно
выпячивал он
нижнюю мясистую
губу и
сбрасывал
костяшки на
счетах.
— М-мда-а,—в
очередной
раз выпятил
он губу и
наткнулся
взглядом на
мальчика.— А...
Тебе чего
здесь?..
— Я— Я...—
начал
заикаться
Ленька.
— Постой,
постой...—Белесые
брови Ефрема Евсеича
удивленно
выгнулись.—Да
никак Ленька-а?!.—И
неловко,
совсем не по-
взрослому,
засуетился.—
Что же ты...
Проходи,
садись…
Усадил
Леньку за
приставной
столик, приговаривая:
- Надо же
вырос как!..
Давно не
видел, так не
признал
сперва,
богатым
будешь. Сел
на свое место.
От его
пристального
пытливого
взгляда Ленька
совсем
смешался.
—Ну,
рассказывай про
жизнь.
Ленька
неопределенно
пожал
плечами.— Невесело,
значит:
Понятно...
Однако духом
падать не
резон, не
по-мужски
это. Так я
говорю? Что молчишь?
Или язык
проглотил?
— Не-е...-
неуверенно
протянул
Ленька. - Я... Я… —
И тут его
будто
кольнуло, он
даже вскочил
со стула: —
Дяденька
Ефрем, примите
меня на
работу! Я
буду
стараться,
честное-пречестное
слово!..
В ответ
на страстную
Ленькину
тираду у Ефрема
Евсеича
как-то
странно
шевельнулись
уголки губ, а
в карих
глазах
мелькнул и
тут же погас бесоватый
огонек, и сам
он почему-то
сник,
потускнел.
Ленька
опустил
голову,
смутно
сознавая, что
зря он сюда
пришел,
ничего у него
с работой не выйдет,
потому что
этот
взрослый
человек, друг
отца, не
понял и,
наверное,
никогда не поймет,
как одиноко
Леньке на
белом свете.
—Ты сиди,
сиди,— кивнул
Ефрем Евсеич.
Ленька сел,
положив
обветренные
руки на обнаженную
поверхность
столешницы.
— М-мда-а...—
наконец
нарушил
молчание
Ефрем Евсеич.—
Дела твои,
прямо
скажем,—
табак. Отчим
отказался от
тебя,
говорит,
чужой ты ему.
Так-то вот. Мы
тут
по-разному
прикидывали,
как быть с
тобой...
Придется в
детдом
определять.
— Не хочу
в детдом,—
упрямо
насупился
Ленька.
— А кто
хочет?
Другого-то
выхода нет.
— Я
работать
хочу, чтоб
деньги
зарабатывать.
Я сам...
— Сам?..
Чудак
человек. Тебе
учиться надо,
чтоб
человеком
стать, а не деньги
зарабатывать.
Пенсию на
тебя будут платить,
на хлеб-соль
хватит.
Только кому
платить? Ты
мал. Опекун
нужен. А где
его взять? Родственников
у тебя,
оказывается,
нету. Кто согласится
на
опекунство?
Тут третьего
дня дед
Лопатин
приходил. С
палочкой. Шибко
тебя жалеет.
Только какой
из него
опекун—старый
он, на ладан
дышит,
фельдшерица
вон каждый
день к нему
ходит с
уколами. А
больше...—
Ефрем Евсеич
беспомощно
развел
руками:—
Больше никто
не хочет в
опекуны. Чужой
ты, говорят,
своих
ребятишек
хватает.
«Чужой»...
Второй раз
уже слышал
Ленька это холодное
беспощадное
слово и
чувствовал, как
все протестующе
сжимается у
него внутри
—А я не
хочу... Я сам...
— Ты все
сам,— с
усмешливой
укоризной
вздохнул
Ефрем Евсеич.—
А случись что
с тобой —
кому
отвечать?
То-то... С меня,
как с
депутата и
как с
начальника, в
первую
очередь
спросят: куда
смотрел? А я
ведь все могу
не увидеть. У
меня и так
забот по горло.
Нет, нету у
тебя другого
выхода. Готовься
в детдом.
Все... Теперь
уже
взаправду
все. Никто за
Леньку не заступится,
никому он не
нужен.
—Не хочу
в детдом,—
все-таки
упрямился
он.— На
работу хочу.
Сам буду,
один жить.
Ефрем Евсеич
грустно
покачал
головой.
— Нету у
нас такого
закона, чтоб
детей заставлять
работать.
— А в
детдом
отправлять
есть закон,
есть? — не унимался
Ленька.
— И чего
ты боишься
детдома, не
понимаю. Там кормят,
обувают,
одевают, в
школе учат.
Там лучше,
чем у
некоторых
дома.
— Все
равно не
хочу...— не
выкрикнул, а
так уж получилось,
что
беспомощно
прошептал
Ленька.
— Ты
успокойся,
подумай
хорошенько,—
увещевал
Ефрем Евсеич,—
ведь судьба
твоя
решается. Ты
умный парень.
Представь: не
пойдешь ты в
детдом. Что
будешь
делать, как
жить?
Во-первых, на
работу тебя
до
шестнадцати
лет не
возьмут.
Во-вторых,
пенсию на
руки тебе
выдавать не
будут —
опекун не
находится.
Придется
тебе с
протянутой
рукой ходить
— милостыню
просить. А
как же иначе?
Тебе
пить-есть
надо, а где
взять?
Воровать? Вот
видишь,
воровать ты
не хочешь.
То-то... Я тебя
не пугаю, а
правду
говорю, как
будет.
Пропадешь ты
ни за грош, ни
за копейку.
Так что
думай, Леонид
свет
Павлович, соображай
головой, что
к чему: или в
школе ума-разума
набираться,
или с
котомкой по
дворам
ходить. Усёк
— Усёк...—
глянул
исподлобья
Ленька.— Все
равно не хочу
в детдом. В
город убегу.
— Далеко
не убежишь.
Да только мой
совет тебе:
не делай
глупостей.
Жизнь-то
человеку одна-разъединственная
дается. И
прожить ее
надо
по-человечески.
Понимаешь?
По-человечески.
Ленька
машинально
закивал в
ответ, будто
соглашаясь
—Значит,
договорились.
Давай пять,
дружище!..
Ленька протянул
свою вялую
руку и
почувствовал,
как ее мягко,
но властно
стиснула
большая сильная
ладонь
Ефрема Евсеича.
— Ты это
самое, не
отчаивайся,
не так страшен
черт, как его
малюют. Ты
обдумай все
как следует.
Понял?
Вот-вот,
главные
решения в
жизни
бездумно не
принимаются,
потому что
они —
главные. Ты
свободен
сейчас? Вот и
хорошо. Сходи
проведай
деда
Лопатина —
второй день
не поднимается
старик. Он
тебе
обрадуется.
Сходишь?
Ленька
кивнул
утвердительно.
Глава 8
Жил дед Леонтьич
за гаражом на
берегу Заихи
в еще
крепком,
почерневшем
от старости пятистеннике
с небольшими
аккуратными
окошками в
резной
оправе
голубых
наличников. В
ограде под общей
тесовой
крышей
теснились
стайки, поднавес,
вместительный
дровяник, до
отказа
забитый
литыми,
прокаленными
солнцем листвяжными
поленьями,
впритык к
дровянику
красовалась
крытая
шифером
недавно
срубленная,
из мерного
кругляка
летняя кухня
с баней — старик,
видать, любил
побаниться.
Навстречу
из поднавеса,
предупреждающе
гавкнув,
завилял
хвостом
рыжий
лохматый пес
ростом с
добрую овцу.
— Рыжик,
Рыжик,—
заискивающе
залепетал
Ленька, с
тоской
поглядывая
на пса.
— А ты не боись. Он
не кусается,—
услышал он
мягкий
певучий
голос бабы
Фроси. Она
стояла на
крыльце кухни
— маленькая
пухлая
старушка в
цветастом
фартуке, с
простоволосой
седой
головой.
— Я не
боюсь.
— Старый
он, Рыжик-то,
ему уже годов
за двадцать,
однако.
Проходи в
избу,
проходи,
милой. Дедка
мой поминал утресь, чтой-то, грит,
Леонтий не
забегает, не
захворал ли.
— Не-ет,
здоровый я...
— Вот и
хорошо, коли
здоров. А
дедка
расхворался. Фершалка, Саяна
Петровна, кажин
день ему
уколы ставит,
как есть
всего исколола,
да ругает
дедку, рано, грит из
больницы
пришел, не
долечился. Како там
рано, теперь
уж все одно,
где
долечиваться,
дома али где,
годы-то никуды
не денешь — к
земле клонют.
После
больницы
Ленька уже
проведывал Леонтьича.
Тогда дед
ладил под
навесом
новые грабли,
строгал
березовые
зубья
маленьким
ловким
топориком.
—А-а,
Леонтий! —
обрадовался
он.— Знать,
выздоровел. Али
нет?
—
Выздоровел
дедушка...
— Слава
богу, слава
богу... А я, стал
быть, тоже ничего...
Вишь, грабли
готовлю.
Старик
даже
прищелкнул
языком. Но
Леньку не
проведешь, не
маленький,
сразу
догадался, что
он просто
храбрится, а
позже, когда
баба Фрося в
летней кухне
кормила их
обедом,
убедился в
правоте
своей
догадки,
разглядев,
какие у него усталые
старческие
глаза, и ел он
просто так,
без охоты,
больше для близиру
ковырял
вилкой
румяно
поджаренную
на сальных
шкварках
вкуснейшую
картошку.
Ленька же
уплетал ее за
милую душу —
баба Фрося то
и дело подкладывала
ему в тарелку
из большой
семейной
сковороды. А
свежие, еще
не остывшие
духовитые
пирожки с
морковкой и пововсе
были
объеденьем, Леонтьич
же разломил
пирожок, одну
половинку
положил
обратно в
эмалированную
миску, а от
другой
откусывал по
чуть-чуть и
жевал, припивая
настоянным
на
смородиновых
листьях чаем,
жевал
медленно, с
расстановкой,
и серое осунувшееся
лицо его было
грустным-грустным.
Ленька
неуверенно
ступил на
застеленные домотканным
половиком
ступеньки
крыльца и
почувствовал,
как грудь его
стеснилась,
сердце
забилось
часто-часто.
Внутри изба
делилась на
кухню-прихожую,
просторную
прохладную
горницу и
маленькую сумрачную
боковушку, в
которой на
старенькой
железной
кровати с
облупившимися
никелированными
спинками
лежал Леонтьич.
Ленька с
трудом узнал
деда — так он
изменился,
даже
вздрогнул,
увидев его
глубоко провалившиеся,
мутно
отсвечивавшие
глаза и услышав
его слабый
какой-то
посторонний,
с чужой
хрипотцой,
голос:
— Это ты,
Леонтий?..
— Я,
дедушка,— тихо
отозвался
Ленька.
— Знать,
не забыл
старика. А я... я,
видать, на покос
уже не поспею
— чтой-то
скрутило не
ко времю.
— Ты о
каком это,
дедка, покосе
кручинишься? —
спросила
баба Фрося.—
Мы ить
корову-то
второй год
как не
держим.
— Аль
забыла,
Фрося, внуку
Кольке
обещался
помочь
стожок сметать,
да вишь ты,
как
вышло-то,— Леонтьич.
слабо
шевельнул
длинной
костлявой
рукой, вытянутой
вдоль тела,
прикрытого
байковым
одеялом.
—
Управились
они с сеном,
Николай
вечор сказывал,
три дни как
управились.
— Вот и
ладно.
Леонтьич закрыл
глаза и
какое-то
время лежал
неподвижно и
молча.
Опутанное
рубцами
морщин лицо
его на белой
подушке
гляделось
землисто-серым
и страшным в
своей худобе,
на виске слабо
пульсировала
темная жилка.
Потом он открыл
глаза,
внимательно
посмотрел на
мальчика
— Ты
садись, паря,
на табуретку,
садись.
—
Спасибо,
дедушка, я не
устал,—
отозвался Ленька,
но придвинул
табуретку к
кровати, сел.
— Так-то
лучше, паря. В
ногах правды
нету. А где
она есть,
правда-то, а?
Молчишь? Не
знаешь, значит.
Ить, как
только
человек на
свет божий
появится, так
начинает
учиться жить
и правду
искать. Под
старость
вроде бы и
жить
научится, да
жить уже
некогда —
помирать
пора. Старые
должны
уступать
место
молодым — так
уж она природой
устроена,
жизнь-то.
Самое
обидное,
живет
человек, свою
правду ищет,
а найти не может.
Невдомек ему,
что правда одна-разъединственная
на свете, а
людей много и
люди-то все
разные: справедливые
и
несправедливые.
Справедливые,
они всё
больше для
всех людей
стараются,
для обчества,
а несправедливые
на свой лад
стараются
переделать,
все к себе
гребут, ничем
не требуют.
Заведется
один такой в
семье — всей
семье тошно;
а как два и поболе,
а? То-то! Вот
всю жизнь и
воюют
справедливые
с
несправедливыми,
а друг дружку
одолеть не
могут. Как
думаешь, кто
одолеет
—
Справедливые...
— Они...
Должны они
одолеть,
потому как у
них настоящая
правда, а
правда, она
живучая, ой живучая,
ее хоть в каку
грязь топчи,
а она всё
одно
поднимется,
потому что
она — правда.
Понял?
Ленька готовно
мотнул
головой, мол,
понял, а сам
ничегошеньки
не понял,
как-то не укладывались
в голове
дедовы
рассуждения
о правде.
— Ты,
Леонтий, на
ус мотай.
Учись жить,
по справедливости,
чтоб с
правдой в
ладу, значит.
Чтоб счастье
в жизни
поиметь. А
без счастья кака
жизнь — так
себе, времяпрепровождение.
— Ты,
дедка, не в
меру раздухарился
— вишь, даже
пот на лбу
выступил.
Тебе фершалка
не велела
много
разговаривать,—сказала
баба Фрося.
Леонтьич сердито
повел
клочками
седых бровей:
— Я сам
знаю, что
можно, чего
нельзя.
Может, я последний
раз так
говорю.
Леонтию хочу
про жизнь
рассказать.
Он все должон
знать, потому
как круглый
сирота.
— Молчу,
молчу,—
поспешила
успокоить
его баба
Фрося.— Тока
не надо про
последний
раз, дедка, не
надо.
— Не буду
больше,—
буркнул,
соглашаясь,
дед.— Ты бы
приготовила
чего парня
покормить.
— Я
сейчас, тока
ты не
волнуйся,
ладно?
—Не буду,
Фрося, не
буду...
Она
незаметно
перекрестила
Леонтьича
и, пятясь,
тихонько
вышла из
боковушки.
Дед
снова закрыл
глаза и снова
какое-то время,
ко всему
безучастный,
неподвижно и
молча лежал,
будто
прислушиваясь
к самому
себе. Леньке
показалось,
что лежит он
так слишком
долго — уж не
заснул ли? Но Леонтьич
открыл глаза
и, как давеча,
внимательно
посмотрел на
мальчика.
Спросил:
— У
тебя-то как
дела?
—
Нормально...
— Эк тебя!..
Отца, матки
нету, а он —
нормально.
Худы у тебя дела,
паря. Как
жить-то
будешь? В
детдом пойдешь?
— Не хочу
в детдом,—
насупился
Ленька.
— У тебя
особо
спрашивать
не будут. Ты
пока еще
ребятенок,
так-то.
Отчим-то что
говорит?
— Ничего
он не
говорит.
— И про
детдом
ничего не
сказал?
— Не-ет
— Ну, Трофимушка...—
покачал
головой Леонтьич
и вздохнул.—
Придется
тебе в
детдом.
— А
справедливость?
— не унимался
Ленька.
— Кака
така
справедливость...
Родичей у
тебя нету.
Детдом для
тебя самая
большая
справедливость.
Однако не
падай
духом-то,
потому как
плетью обуха
не
перешибешь, а
душу себе
испоганить
можно. Везде
люди живут, и
плачут и
смеются — все
вместе.
Потому как
жизнь кругом
всякая
разная.
Оттого,
что жизнь
кругом
всякая
разная, Леньке
было ничуть
не легче, скорее
наоборот. Он
шел к Леонтьичу
не только
проведать
старика, но и
с надеждой,
что тот
чем-то
поможет ему,
посоветует,
что-то
придумает
такое, отчего
в жизни
Ленькиной
все станет на
свои места.
На какие
места и как
станет, он не
знал и не
имел
никакого представления,
как это
должно
произойти, а
как бы
хотелось все
знать
наперед, да
так не бывает,
наверное... И
от мыслей
таких сделалось
ему совсем
грустно, ну
просто
невыносимо
грустно. Дед Леонтьич
заметил это и
как мог
приободрил:
-А ты
носа-то не
вешай — тебе
радоваться
надо, потому
как живой,
здоровый и
жизнь у тебя
вся впереди.
Чего так смотришь?
Думаешь, из
ума выжил
старик? Не-ет...
По секрету
тебе скажу:
свет клином
на Заихе
не сошелся.
Свет
большой!.. Ой,
большой,
конца-краю
нету ему и
везде люди живут.
Так-то…
—Не хочу
в детдом,—
упрямо
повторил
Ленька.
В ответ Леонтьич
надолго
закрыл глаза,
и Ленька
видел, как слабо
пульсировала
на виске
жилка.
Потом
пришла баба
Фрося, увела
Леньку в летнюю
кухню. Он
пробовал
отговариваться,
что сытый,
недавно ел,
она и слушать
не стала,
силком
усадила за стол,
поставила
перёд ним
полную
тарелку мясного
борща. Ленька
начал есть
неторопливо,
будто нехотя,
но скоро,
забыв обо
всем, в два
счёта
расправился
с борщом, с
баночной перловой
кашей и с
удовольствием
запил все
сладким чаем
с любимыми
бабкиными
морковными
пирожками.
Баба
Фрося,
положив на
колени
маленькие жилистые
руки, сидела
возле плиты и
не спускала с
него
внимательного
жалостливого
взгляда.
— Ты ешь,
болезный,
ешь. Дома,
небось, не
шибко кормят,
да и кормить-то
некому. Дедке
моему ты
больно поглянулся,
хотел тебя заместо
сына в дом
взять, да
начальник не
разрешил, нельзя,
грит, не
по закону,
старые вы
оба, больные,
а за парня,
это за тебя,
значит,
отвечать
надо. Дедка шибко
обиделся на
начальника. А
чо обижаться?
Правду Ефрем
сказал,— и,
пугливо оглядевшись,
зашептала: —
Дедка-то мой
хорохорится,
а сам того и
гляди...
На
прощанье она
попросила
почаще
проведывать
деда Леонтьича
и заходить
просто так.
Ленька
пообещал.
Глава 9
 Облокотившись
на шаткие перила,
он смотрел в
светлую воду.
Здесь, у моста,
в тени
нависших над Заихой
тальников,
обычно
скапливалась
суетливая
мелюзга —
стайки
малявок, а
если
приглядеться,
можно
заметить
настороженных
красавцев
хариусов, в
любую
секунду
готовых сверкнуть
сизой молнией
и исчезнуть.
Правда,
крупных черноспинников
с радужным
верхним
плавником-крылом
здесь
никогда не
доводилось
видеть — черноспинники,
они любят
тайгу
поглуше и
бочаги
поглубже, но
и здешние
беляки тоже
не чета
какому-нибудь
пескарю или пищуге. На
этот раз,
сколько ни
приглядывался,
хариусов не
увидел, да и
малявки тоже
куда-то
подевались. Собственно,
ни хариусы,
ни малявки
Леньку не
интересовали
— не до них
ему. Он
просто не знал,
как убить
время, как
дождаться
семи часов
вечера, когда
приедет
отчим с Витькой
и его
бабушкой. Еще
утром он лишь
смутно
догадывался,
что
неспроста
отчим вызвал мать,
а после
встречи с
Петькой
Широковым и разговора
с Леонтьичем
смутная
догадка
превратилась
в уверенность,
что баба Вера
заберет с
собой Витьку,
он же, Ленька,
ей и на дух не
нужен, как и
она ему, и
тогда отчим спокойненько
определит
его в детдом.
Где-то в
глубине души
Ленька
понимал:
детдома не
миновать, но
недаром же у
него упрямый
отцовский
характер
(мама всегда
говорила:
вылитый
батя!), он еще
постоит за
себя. А пока...
Облокотившись
на шаткие перила,
он смотрел в
светлую воду.
Здесь, у моста,
в тени
нависших над Заихой
тальников,
обычно
скапливалась
суетливая
мелюзга —
стайки
малявок, а
если
приглядеться,
можно
заметить
настороженных
красавцев
хариусов, в
любую
секунду
готовых сверкнуть
сизой молнией
и исчезнуть.
Правда,
крупных черноспинников
с радужным
верхним
плавником-крылом
здесь
никогда не
доводилось
видеть — черноспинники,
они любят
тайгу
поглуше и
бочаги
поглубже, но
и здешние
беляки тоже
не чета
какому-нибудь
пескарю или пищуге. На
этот раз,
сколько ни
приглядывался,
хариусов не
увидел, да и
малявки тоже
куда-то
подевались. Собственно,
ни хариусы,
ни малявки
Леньку не
интересовали
— не до них
ему. Он
просто не знал,
как убить
время, как
дождаться
семи часов
вечера, когда
приедет
отчим с Витькой
и его
бабушкой. Еще
утром он лишь
смутно
догадывался,
что
неспроста
отчим вызвал мать,
а после
встречи с
Петькой
Широковым и разговора
с Леонтьичем
смутная
догадка
превратилась
в уверенность,
что баба Вера
заберет с
собой Витьку,
он же, Ленька,
ей и на дух не
нужен, как и
она ему, и
тогда отчим спокойненько
определит
его в детдом.
Где-то в
глубине души
Ленька
понимал:
детдома не
миновать, но
недаром же у
него упрямый
отцовский
характер
(мама всегда
говорила:
вылитый
батя!), он еще
постоит за
себя. А пока...
Минут
десять как со
станции
воротился
«КрАЗ»,
высадил
пассажиров у
столовой и,
густо опахнув
Леньку пылью,
грузно
проскрипел, по
мосту в
гараж,
значит, уже
около
одиннадцати,
выходит,
ждать еще ой
как долго.
Деревня, как
назло, будто
вымерла, ни
одного
мальчишки не
видать, лишь
ниже моста,
напротив
общественной
бани, ватага
голопузых
пацанов с
визгом
плескалась в
мелком заливчике
да в детском
садике под
приглядом воспитательницы
копошилась в
песочнице малышня.
Ленька
тоскливо
огляделся и
неторопливо под
жарким уже
солнцем
побрел к
столовой, а оттуда
наверх, к
дому.
Подходя,
увидел возле
ворот тетки Минаихи
«Урал» с
цистерной. На
этой машине
долговязый
Гришка
Сережкин
развозил
воду по верхним
улицам, где
нет колодцев.
Гришка с
весны, сразу
после курсов,
шоферит на
этой машине,
гордо
называет себя
водовозом.
Парень он что
надо, зайские
бабы
довольны:
всегда
вовремя
привезет воду,
если хозяйки
или хозяина
не окажется
дома, без них
зальет
выставленные
на улицу емкости.
У
Ленькиной
калитки
стоит два
алюминиевых
бака литров
по двести
каждый, Подъехав,
Гришка сунул
Леньке
тяжелую
кишку шланга:
—Действуй,
овладевай
профессией
водолива —
под старость
лет кусок
хлеба будет.
А я покурю
малость.
И присел
на подножку
«Урала».
Наполнив
баки, Ленька
пристроился
рядом с ним
—. Гриш, а
Гриш...
—
Во-первых, я
тебе не Гриш,
а Григорий
Николаевич,
понял?
— Понял…
- То-то...
Чего надо?
—Ты
курсы
шоферов скольки
лет кончал?
— Я-то? —
важно
затянулся
сигаретой
Гришка.— Дай
бог памяти.
Шестнадцати,
кажись, не
было.
— Тебя сразу
на работу
взяли?
— Не-е,
с месяц
волынили,
пока батя за
меня не поручился.
А теперь
все — ко мне
не
придерешься
— шоферский
стаж имеется.
Так-то,
братец. Ты
что, на шофера
хочешь
выучиться? Не
торопись—
успеешь.
Тяжелая это
работа.
Баранка, она
не каждому по
плечу. Бросил
окурок под
ноги, растер
кирзовым
сапогом.
Отъехал
Гришка к
соседним
воротам. Дома
Леньке
нечего
делать, у
него даже
книжки интересной
нету —
клубная
библиотекарша
болеет —
негде взять.
Подумал, чем
бы заняться,
и вспомнил о
своем заветном
месте.
Таилось оно
за деревней,
на жухлом
склоне горы,
редко
утыканном
молодыми
невзрачными
березками.
Гора
подступала к Заихе с
востока, к
самому
Ленькиному
огороду. Как-то
позапрошлым
летом еще
загорелось
Леньке
полюбоваться
на родную
деревню сверху.
Не
раздумывая,
пролез
сквозь
жердяную городьбу
за огород. И
хоть склон
горы был не очень
крутой, до
самого
гребня он
тогда не добрался;
не потому,
что
испугался
чего или силы
не хватило,
нет, лез-лез
он и
наткнулся на
колючий куст
цветущего шипишника
и разглядел
за ним темный
лаз в пещеру.
Пещер по
каменистым
кручам вдоль
речки Заихи
великое
множество, но
эта была
особая, им открытая,
значит, его,
Лёнькина,
пещера. Пускай
сводчатый
потолок в
острых
каменных выступах
едва
позволял
выпрямиться
во весь рост
и
поместиться
в ней могло
не больше
десятка
мальчишек,
зато раньше —
это уж точно!
— не ступала
тут нога
человеческая.
И вся деревня
отсюда как на
ладони
лежала —
любуйся сколько
хочешь!
Ленька
взошел на
маленькую
площадку
перед
заветной
пещерой,
остановился, отпыхиваясь,
все-таки
устал до
дрожи в
коленках,
зато ни разу
не отдыхал.
Здесь,
наверху, было
не так жарко
— обдувало
ветерком.
Сердце
постепенно
успокаивалось,
билось уже не
так часто и
гулко и скоро
пришло в
норму.
Давно
уже, может, в
конце прошлого
века, а может,
в начале
нынешнего на
берег бурной
таежной
речки Заихи
пришли
бездомные
поселенцы.
Огляделись, неопределенно
почесали
затылки,
перекинулись
друг с другом
вопросительными
кивками, и
тогда ихний
старшой
стянул с
потной
лохматой
головы картуз,
отмахнулся
им от
комаров,
сказал:
—Чем не
место: вода —
вот она,
тайга — эвон
какая, зверя
в ей, птицы
всякой..
И люди
засучили
рукава,
взялись за
топоры. Сперва
валили великаньи
листвяжные
стволы у
речки, рубили
избы поближе
к воде, но Заиха
в ту далёкую
пору текла
среди
нетронутой
глухомани и
вёснами
часто
затопляла
низинные
берега. Тогда
поселенцы
стали
перебираться
повыше, на
косогоры, в
бочках
возили воду
для питья, но
зато
весеннего
разгула Заихи
не боялись.
Давно это
было, может, и
было-то вовсе
не так, как
сочинил для
себя эту
историю Ленька,
в конце
концов это не
так важно,
важно, что
деревня
живет.
Говорят,
вокруг Заихи
было еще
несколько
деревень,
одну из них — Сорбик —
километрах в
пяти вверх по
речке, Ленька
знал, там
сохранился
единственный
полусгнивший
остов избы,
обнесенный
обуглившейся
от времени
оградой, и
кладбище неподалеку,
и на одной
могилке
памятник —
окрашенная
белилами
деревянная
богородица, издали
— как живая,
под вечер
страшновато
смотреть.
Ленька
стоял возле
усеянного
спеющими ягодами
куста шипишника
и смотрел
вниз. Перед
ним под
всемогущим
солнцем
лежала его
родная
деревня,
разделенная
надвое
вертлявой
неугомонной
речкой. Ленька
смотрел на
деревню и
вспомнились
услышанные
возле
магазина
слова Ливанихи:
—Несуразная
наша Заиха.
Как баба
пьяная
раскорячилась,
никакого виду.
Сказала так Ливаниха
и
категорически
матюгнулась,
и ни одна из баб
не
заступилась
за деревню,
промолчали все,
видно,
соглашаясь.
—
Неправда
ваша,— не
утерпел,
высунулся
Ленька.
— А ты в
бабьи
разговоры не
встревай,
пострел,— шурнула
его Ливаниха.
Где-то в
тайнике души
Ленька
соглашался с Ливанихой
— несуразная Заиха,
разбросала
свои
подворья как
попало. Главная
деревня с
конторой,
почтой,
магазином и недостроенным
общежитием
для бичей
двумя вилючими
улицами
разместилась
на краю
косогора;
внизу, у
столовой,
сходились
все зайские
дороги, и
потому
задыхались
от пыли и
бензиновой
копоти и
хлипко
дрожали от
тяжкой поступи
лесовозов,
тракторов и
прочей наступательной
леспромхозовской
техники столовая,
школа, детсад
и вечно
пустой клуб с
пудовым
амбарным
замком на
двери. От
клуба, огибая
косогор,
вдоль безымянного
ручья
разбрелись в
беспорядке подворья,
новые и
старые,
казенные и
частные,
всякие. За
речкой, прямо
у моста,
вонял мазутом
и соляркой
гараж; от
него влево
уходили две
улицы: одна,
коротенькая,
десятка в полтора
разномастных
построек,
кралась по
берегу,
другая — Глухаринка
—
поднималась
в гору и
неуклюже
тянулась далеко,
до
неожиданно
вставшей на
пути сочно-зеленой
таежки;
справа от
гаража вниз
по течению —
улица с
красивым
именем
Заречная,
такая же
бестолковая
и
неухоженная,
как
остальные.
Все подворья
и улицы Заихи
завалены
дровами, и
почерневшими
от древности,
кособокими, в
несколько
рядов, поленницами,
и абы как
сброшенными
прямо на
улице у ворот
бревнами, и толстенными
листвяжными
хлыстами.
Запаса дров
хватило бы
топиться всей
деревне лет
на десять, не
меньше. Так что
и вправду не
отличалась
красотой Заиха,
есть деревни
получше,
конечно,
есть, но эта была
его,
Ленькина,
деревня, и он
любил ее и не
променяет ни
на какую
другую, он же
здесь
родился,
прожил
полных
одиннадцать
лет, здесь
знают его все
и он всех
знает, здесь
каждый
камень на речке,
каждая
травинка ему
знакомы, это
его родная
деревня. И
вот на тебе:
чужой!
Доверчиво
обнаженное
мальчишечье
сердце не хотело
соглашаться:
как это, в
своей родной
деревне и —
чужой! Он что,
виноват, что
у него умерла
мама?.. Нет,
что-то не
додумали
взрослые, не
может быть на
свете такой
несправедливости,
вечно у этих
взрослых
что-нибудь да
не так...
Ленька
стиснул зубы
и долго
глядел на
деревню. У
него был
зоркий глаз,
недаром мама
просила его
вдергивать
нитку в
иголку. Он
смотрел;
равнодушно
узнавал редких
прохожих на
улицах и
успокаивался
понемногу,
начинал уже с
интересом
наблюдать,
что делается
в деревне. А
там ничего особенного
не делалось:
по мосту
прытко, с голым
пузом,
промчался
Оська Машурин,
а немного
погодя,
вооруженная
хворостиной,
тряся
телесами;
показалась
из-за кустов
черемухи
сама бабка Машуриха,
ядовитого
языка
которой
боялись не
только зайские
бабы, но и мужики,
и местные
власти.
Оська,
видать,
крепко набедокурил
и теперь
спасался от
расправы
бегством.
Спасся. Машуриха
остановилась
на мосту,
погрозила
внуку хворостиной
и в сердцах
стебанула ею
пробегавшего
мимо глупого
соседского кобелишку
Бама, тот
дико взвизгнул,
огрызнулся и
серой
лохматой
кляксой
умчался
прочь по
дороге. Машуриха
бросила
хворостину и
поволоклась
домой. И больше
ничего
стоящего
внимания,
деревня дремала
под солнцем,
и дремотное
состояние ее
невольно
передалось
Леньке. Он
уже совсем
успокоился.
Все больше
клонило в
сон; Ленька
полез в темный
лаз пещеры,
отыскал там
ветхую, еще отцовскую
телогрейку, в
прошлом году
принесенную
сюда из дому,
расстелил у
лаза в пещеру
и под
убаюкивающую
прохладу ее
заснул быстро
и крепк
Проснулся,
он внезапно;
почудилось,
будто кто-то
окликнул его,
вскочил,
огляделся —
вроде бы все
на месте.
Внизу по-прежнему
лежала
разомлевшая
от солнца Заиха.
Донесся
угрюмый шум
мотора. Так и
есть — четыре
часа: к
столовой
пылил из
гаража неуклюжий
«КрАЗ».
Сейчас он
увезет пассажиров
на станцию и
оттуда
привезет
отчима. Скорей
бы уж...
Привычно
глянул вниз,
на свой дом,
показалось,
кто-то
мелькнул во
дворе. Точно,
так и есть —
калитка в
огород
распахнута.
Ленька
закрывал ее
на вертлюжок
— это он
хорошо
помнил, а
теперь... В
калитке
показался...
Витька. Час
от часу не
легче! Когда
они успели?
Через пять
минут Ленька
был внизу.
Витька,
босой, в
одних
трусиках, отмахиваясь
от комаров,
шарил по
грядке с горохом.
Он так
увлекся, что
не сразу
увидел брата,
а увидев, тут
же
похвастался:
— А мы на
лесовозе
приехали.
Руль у
лесовоза
большой-большой,
во какой! —
Показал
руками.— Мне
дяденька
шофер давал
рулить. Вот
здорово!
И баба
Вера
приехала? —
спросил
Ленька, втайне
надеясь
услышать
отрицательный
ответ.
— И баба
Вера
приехала. Она
дома с папой
разговаривает.
Хочешь, я
тебе самую тайную
тайну скажу?
— Хочу...
— Баба
Вера увезет
меня с собой,
а тебя не увезет,
ты ей не
понравился.
Правда-правда,
она сама так
папе
говорила, я
слышал. И еще
говорила, что
ты ей не
родной.
Правда-правда...
—Подумаешь,
я и сам не
поеду,—
ответил
Ленька. Наверное,
что-то в его
голосе
показалось
Витьке
подозрительным,
потому что он
хитро прищурился
—А ты не
врешь?
— Не вру.
Честное-пречестное
слово.
—
Правда-правда?
— Ага.
Витька
поверил.
Братья пошли
в дом.
Глава 10
—
Говоришь,
явился, не
запылился!
В ответ
Ленька
сказал
вежливо:
— Здрасте...
Она
помедлила
немного,
отозвалась
снисходительно:
—Здравствуй,—
и добавила: —
Коли не
шутишь. Ленька
промолчал.
Баба
Вера, крепкотелая
носатая
старуха,
важно сидела
на диване,
опершись
пухлой голой
рукой на
обтерханный
до бахромы
валик. Отчим
угрюмо склонился
над столом, с
повышенным
интересом разглядывал
поблекший
рисунок на
клеенке. Как
видно,
разговор у
него с
матерью был
не из
приятных, не
иначе, ругала
она его за
что-то, да
помешали
мальчишки —
не вовремя
явились. Зато
отчиму
пришло
облегчение,
отступилась
баба Вера от
него и
принялась за
Леньку, как
прилепилась
к нему своими
маленькими
сверлящими
глазками, так
и не
отлеплялась,
сверлила и
сверлила его
— впору
сквозь землю
провалиться,
и хоть бы
говорила что,
а то молчала,
душу ему
выматывала.
Наконец нарушила
молчание:
— Однако
ты вытянулся,
настоящим
парнем стал.
Куришь?
— Не курю
я...
— Врешь,
поди. Ну да
это твое
дело. Хочешь
себе жизнь
укоротить —
кури.
— Не курю
я,— упрямо
повторил
Ленька.
— Ну-ну...—
Решительно
встала.—
Однако, хватит
соловья
баснями
кормить.
Холодильник-то
у вас как,
пустой поди?
И грозно
взглянула на
сына. Тот
смешался,
залопотал,
как нашкодивший
мальчишка:
— Не-е...
Что-то есть...
Мы больше в
столовке...
— Оно и
видно. У
Витьки вон на
роже вся
столовка
светится,— и
грозно
Леньке: —
Чего стоишь?
Ищи сумку,
сетку какую —
в магазин
пойдем.
А что?
Ленька
ничуть не
обиделся на
бабы Верину
грозность,
ему даже
понравилась
ее решительность,
про себя сравнил:
отчим хоть и
вылитый
портрет
своей матери,
а
решительность
у него больше
специальная
— насчет рюмашки.И
вот они
гуськом
шествуют в
магазин.
Впереди
широко,
твердо
шагает баба
Вера, за ней —
Ленька, а за
ним едва
поспевает
увязавшийся следом
Витька, как
был — в одних
трусиках. В
магазине
полно народу
— продавали
мясо. Бабу
Веру нисколько
не смутило
магазинное
столпотворение.
На нее
зашикали,
зашумели
— Куда
прешь без
очереди!..
— Ты што,
красивше
всех?..
— Не
пущай ее!..
Ленька
не без
злорадства и
с непонятной
тревогой и
грустью
подумал: толпа
насядет
сейчас и
вытолкает
настырную старуху
из магазина,
но баба Вера
обвела всех своими
липучими
глазками.
—Недосуг
мне в очереди
прохлаждаться.
Детишки без
материного
догляду
оголодали совсем
— накормить
надо,—
громко,
выделяя
каждое слово,
сказала она и,
странное
дело, в
очереди хоть
и покосились
на нее, но
настороженно
примолкли,
ощупывая
старуху
любопытными
взглядами.
А та
протиснулась
к прилавку,
по-хозяйски оглядела
куски
говядины на
большом эмалированном
подносе,
сказала
опешившей
продавщице
тете Поле:
—Ты,
милая, мне лафтачок-другой
помягче
подбери, с
жирком чтоб.
Зубы у меня не
ахти какие,
старые, мосол
не разгрызут.
Да и
пельмешек
охота
налепить
внукам.
И обычно
не шибко
вежливая с
покупателями
грудастая
тетя Поля
преобразилась,
она ловко поднимала
на вилке
куски
говядины,
поворачивала
перед
грозной
старухой,
давая
оглядеть со
всех сторон и
выбрать,
какой по
душе. После
аккуратно
завернула
взвешенное
мясо в
бумагу,
подала бабе
Вере. Та
неспешно
засунула
сверток в
сумку и
начала
тыкать
пальцем в витрину:
— Кило
рису, вермишельки,
пачку чая.
Карамелек.
Свежие они?
Тогда грамм
триста
свешай. И
хлеба. Белого
и черного, по
булке хватит
— свиней
нету.
—
Пропили,
небось,—
съехидничал
кто-то в очереди.
— Может, и
пропили, да
не твое это
дело, милая,—
не оборачиваясь,
отпарировала
баба Вера,
вручила
Леньке сетку
с хлебом, а
Витьке
бумажный кулек
с рисом; ни на
кого не
глядя, прямая
и гордая,
направилась
к выходу.
 Уже
в дверях
Ленька
приостановился,
услышав чей-то
нервный
сердитый
голос:
Уже
в дверях
Ленька
приостановился,
услышав чей-то
нервный
сердитый
голос:
— На нее
бы Машуриху
науськать,
она бы ее
живо уделала!
— Не
скажи. Машуриха
перед ней
хлипкая —
салом
заплыла, а
эта как
солдат все
равно,—
ответила
тетка Минаиха
— Ленька
сразу узнал
тоненький
хрипучий голосок
соседки. Но Машурихи
в магазине не
оказалось, о
чем зайские
бабы лишь
повздыхали, сожалеючи.
У бабы
Веры были
большие
темные руки с
короткими
пухлыми
пальцами, с
виду
неуклюжие, но
когда она
крошила на шкварчащую
сковороду
картошку,
Ленька
невольно
загляделся,
как ловко она
это делала, и
виделись ему
другие,
мамины, руки,
маленькие,
чуть
тронутые
загаром, никогда
он не знал их
в покое, они
постоянно двигались
и оттого, что
мама в
последнее
время болела
нервами и
потому, что
не привыкли они
без дела.
Ленька
перевел
взгляд с рук
бабы Веры на
ее лицо,
вернее, на ее
нос, как у
разноцветного
попугая на
картинке, или
как у одного
нерусского
артиста кино,
очень
хорошего
артиста,
смешного и
немножко грустного,
фамилию его
он не
запомнил, да
это, наверное,
не очень
важно, важно,
что артист
хороший.
Красивой
бабу Веру не
назовешь, это
правда,
однако было в
ее не по-женски
скуластом
жестковатом
лице что-то
привлекательное,
Леньке
непонятное.
—Чо
пялишься?—глянула
на него баба
Вера.
Ленька
покраснел,
опустил
глаза. Врать
не хотел и
правду
говорить
тоже. Просто
в это время
он очень
завидовал
брату — у
него есть
бабушка, пускай
сердитая и
еще там
какая-то, но
его, Витькина
бабушка. А у
Леньки
никогда не
было бабушки,
то есть она
была и даже
две, да
умерли они,
когда он еще
не родился. И
дедушек
своих он тоже
никогда не
знал и не видел
— они тоже
давно умерли.
Вот тебе и
справедливость:
у одного и
родители, и
две бабушки,
и два
дедушки, а у
другого —
никого.
Баба
Вера еще раз
глянула на
него, велела:
—Сбегай
в огород, две
луковицы
сорви да укропчика
не забудь.
Обедали
по-праздничному
— в большой
комнате. Баба
Вера
отыскала в
шифоньере
чистую скатерть,
постелила на
круглый стол.
Ленька с
Витькой
помогали ей —
носили из
кухни тарелки,
ложки, вилки.
Отчим принес
бутылку водки,
сказал
матери заискивающе:
—Ради
твоего
приезда по
рюмашке.
Та
одарила его
долгим
осуждающим
взглядом,
вздохнула:
—Разве
что по одной...
Взяла у
него из рук
бутылку, сама
разлила по
граненым
стопкам:
ему—
полную, себе
— на донышке,
а остатки
спрятала в
холодильник.
Одной
рюмки отчиму
явно не хватило
для хорошего
настроения,
однако он стойко
терпел, ел
лениво и
неохотно.
После обеда
она учинила разнос
всем троим.
Началось с
того, что
обнаружила в
кладовке
ворох
грязного
белья.
—Мать
моя мачеха! —
всплеснула
она руками.—
Да вы что же
это, а? Рубашки-то
как заносили
— не достираться
теперь. Чо
смотрите? Как
почну понужать
— будете
знать!
Ленька,
за ним и
Витька на
всякий
случай попятились
к выходу.
Баба Вера
лишь косо
глянула на
них,
спросила:
— Вы что,
так и ходили отымалками?
Что
такое «отымалка»
Ленька не
знал, но,
решив про
себя, что это,
наверное,
что-то очень
грязное,
промолчал, а Витька
мотнул
утвердительно
головой:
— Ага-а...
— Вот
тебе и
«ага»,—
усмехнулась
баба Вера.—
Баня-то у вас
хоть цела?
Слава богу.
Несите все в
баню —завтра
стирать
будем.
В
огороде
сперва
случилась
немая сцена.
Баба Вера как
увидела
заросли
бурьяна на
грядках, так
сразу
разучилась
говорить, она
только
взглядывала
своими
сердито
вспыхнувшими
глазками то
на бурьян, то
на виноватую
троицу,
покорно
застывшую
перед ней,
маленький
рот ее с
темными
волосиками
над верхней
тонкой губой
шептал что-то
невнятное, но
вскоре это
невнятное
стало походить
на ее любимую
поговорку
«Мать моя мачеха»,
а потом — они
даже присели
от неожиданности
— раздался
истошный, на
всю Заиху
вскрик:
—Пара-азиты!..
Это
относилось
ко всем
троим.—Дубина
стоеросовая!
— это уже
отдельно к сыну,
чуть потише.
И
неожиданный
всхлип:
—Это
надо же так
над огородом
изгаляться... Над
кормильцем...
И опять
на пределе:
—Ироды!
Да вас за это!..
Что,
какое
наказанье
следовало за
это, она не
договорила,
безнадежно
махнула
рукой.
Троица
поняла жест
ее, как
отпущение
грехов и уже
намеревалась
исчезнуть, ан
не тут-то
было.
—Куда?
Ишь вы какие шустряки!
Вы думаете,
это вам
задарма
пройдет? А
кто грядки
полоть будет,
а? Может, я? Я,
что ли, за
этим к вам за тыщу
верст ехала!
Допоздна
не
разгибались
они над
злополучными
грядками,
вместе с ними
и баба Вера,
она успевала
и морковку
полоть, и
зорко следить
за ними, чтоб
не отлынивали
от работы. К
вечеру едва
держались на
ногах от
усталости.
Бедняга
Витька не доужинал,
задремал за
столом. Отец
на руках отнес
его в
постель, он
заснул, едва
коснувшись
подушки.
Ленька
долго не мог
уснуть,
затаившись,
прислушивался,
как за тонкой
тесовой
перегородкой
ворочалась
на продавленном
диване баба
Вера,
бормотала
что-то невнятное,
тоже, видать,
наработалась
вдосталь, а
может, во сие
переживала
за внука Витьку?
Может. Не за
него же ей
переживать...
Баба
Вера жила у
них еще два
дня, но этого
по-за глаза
хватило
отчиму. Он
исстрадался
весь: и на
работу —
трезвый и с
работы — как
стеклышко и
это, когда на
кухне в
холодильнике
призывно
светилась
початая
бутылка. Попробуй-ка
вытерпи! Все
же вытерпел,
хотя один
раз, Ленька
нечаянно
увидел в
окно, тихонько
открыл
податливую
дверку
«Бирюсы»,
боязливо
оглядевшись,
протянул к
бутылке-соблазнительнице
неуверенную
руку и резко
отдернул,
захлопнул
холодильник.
Ленька в
эти дни почти
не выходил из
дому — некогда
было, баба
Вера
торопилась
все, что надо,
по дому
переделать и
разлеживаться
не давала, он
был ее самым
первым и
самым
главным помощником
в запущенных
без мамы
домашних делах.
Мама
обязательно
пожалела бы,
она хоть и не
очень-то
баловала, но
лишнюю, не
его работу
делать не
заставляла,
управлялась
сама, а баба
Вера
торопилась
все, что надо
по дому
переделать и
не разбирала,
где чья
работа, и он
молчком
помогал
стирать
белье, выносил
помойное
ведро и много
других
мелких дел выполнял,
не говоря уж
об огороде —
прополка
грядок
выпала в
основном на
его долю, так
как Витька
всякий раз
удирал из
дому и это
ему, как
младшенькому,
сходило с
рук.
С бабой
Верой у
Леньки
неожиданно
сложились
терпимые
отношения, по
крайней мере
она не
покрикивала
и рук не
распускала,
но и особой
нежности к
нему не
проявляла.
Правда, он
нет-нет да и
ловил на себе
ее
пристальные,
вроде бы
виноватые
взгляды, и
ему тогда делалось
неловко,
хотелось
сказать ей
что-нибудь
обидное,
дерзкое, но
он молчал.
Накануне
отъезда она
гладила в
большой
комнате белье.
Ленька
собирался
улизнуть из
дому, решив,
что все свои
дела он
переделал и
заслужил
отдых. Она
остановила
его:
—Погодь
на улку-то
— успеешь.
Посиди вот,—
указала на
стул по другую
сторону
стола.
Он
послушался,
сел. Она
какое-то
время молча
водила
горячим
утюгом по
наволочке,
потом сообщила
уже
известную
ему новость:
—Уеду я
завтра от вас
и Витьку
заберу. У Леньки
чуть было не
сорвалось с
языка, что
если бы она
захотела и
его взять с
собой, то он
бы никуда не
поехал, но он
в ответ лишь
пожал плечами.
Баба Вера
почему-то
вздохнула и
продолжала:
—Мне тут неча с
вами турусы
разводить. На
моих руках
еще один дом.
Там делов
— до смерти
не
переделаешь.
Ленька
слушал и про
себя
удивлялся,
чего она
перед ним
оправдывается,
ведь он ее не
держит —
езжай,
пожалуйста,
хоть когда.
Она
опять
почему-то
вздохнула.
-
Своего нету
— сгорел в
одночасье.
Строить
новый силов
нет и нужды
особой. У
дочки живу. У
ней три девчонки
да мальчишка
Димка по
четвертому году,
а мужа-то
нету — один
помер, а
другого выгнала
— потаскун да
пьяница
оказался. Одной-то
ей с
ребятишками
маята — не
управиться. Я
у ней вроде
как нянька —
помогаю
детишек ростить.
А сейчас вот
еще Витька на
мою шею.
Ленька
догадался
вдруг, к чему
она клонит, она
боится, что
он
попросится
вместе с
Витькой. Даже
на стуле
заерзал.
Баба Вера
смутилась
немного и,
помолчав,
продолжала с
непривычной
для нее
ласковостью:
— А
парень ты
вроде ничего,
душевный. Да
вот с маткой
тебе не
повезло.
Теперь чего
уж — прошлого
не воротишь.
Не пропадешь
поди — не дадут
пропасть
люди-то.
Только за
отчима, сынка
моего
неладного,
держаться не
след — сгинешь.
Ему самому
нянька
требуется.
— Не
беспокойтесь,
не буду
держаться,—
угрюмо, с
вызовом
ответил
Ленька.
— И
правильно, не
держись. В
детдоме ноне
догляд
хороший:
кормят,
одевают, в
школе учат,—
и, как ни в чем
не бывало,
добавила
буднично: —
Тут я белье
твое
погладила,
отдельно
положила. Попервости
в своем
походишь —
все лучше,
чем в казенном.
Ленька
вскочил и
выбежал из
комнаты
Глава 11
Уехала
баба Вера,
увезла с
собой внука
Витьку, и
поползли по
деревне взрослые
разговоры. И
пробыла-то
она в деревне
неполных три
дня всего, и
вроде дальше
магазина
никуда не
ходила, и не
вела ни с кем доверительных
разговоров, а
сарафанное радио
разузнало о
ней всю
подноготную
и разнесло по
всей деревне.
Чего только
не говорили о
ней! Одни
чуть ли не
клятвенно
уверяли,
будто она
чокнутая,
другие — что
просто злая и
наглая
старуха без
стыда и
совести. А кто-то,
знающий по
великому
секрету не
для передачи,
конечно,
шепнул
другому, что
баба Вера гипнотизерка,
значит, может
сделать с
человеком
все, что
захочет, ей
это раз плюнуть.
В
подтверждение
добавилась
подробность:
будто там,
где она
живет, ее
специально
вызывали к
какому-то
большому
начальству, и
то большое
начальство
будто бы пригрозило
отдать под
суд, если она
не утихомирится,
а она не
утихомирилась,
и стали ее
судить да
ничего не
вышло — она
как
вытаращилась
— и сразу все.
Что все —
неизвестно,
да только
все.
Ох уж эти
взрослые
разговоры!
Возле моста Ленька
встретил
Витькиного
закадычного
дружка с
Заречной,
вечно
сопливого Коську
Ширина, и тот
спросил:
—А
правда, что
Витькина
бабушка
ведьма?
Ленька
глаза
выпучил: вон
уж до чего
дошло! Однако
спросил у Коськи:
-Тебе кто
сказал?
-Моя
бабушка. Она,
говорит,
ведьма и еще колдовка.
- Вруша
твоя бабушка.
—А вот и
не вруша. Она
всегда
правду
говорит.
Ленька не
стал с ним
церемониться,
поддал
хорошего пенделя
под зад. Коська
заорал и
побежал
ябедничать
на него своей
бабушке.
Леньку
больше
жалели: и
какой он
разнесчастный,
и какой у
него
забулдыга-пьяница
отчим. (Как
его только земля
держит, давно
пора
отправить с
милиционером,
чтоб не
сбежал, в алкашную
лечебницу в Атаманово
или куда
подальше, да
местком
что-то не торопится;
оно и
понятно, кому
охота лишнюю
ношу на себя
взваливать,
денег за это
не платят, а
возни —
намучаешься
досыта.) А тут
еще с чьей-то
легкой руки
окрестили
Леньку
детдомовцем
— хоть на
улицу не выходи.
Выйдешь —
обязательно
наткнешься на
какую-нибудь
сердобольную
тетку и та
обязательно
начнет
жалостно
причитать:
— Сирота
ты
горемычная,
трудно, поди,
без матери?
Ленька
немедленно
огрызался:
— А вам
какое дело?..
Тетка
тут же
сдвигала
сердито
брови:
—Ишь ты
какой!
Детдомовец и
есть!
Леньке, в
общем-то,
наплевать на
все разговоры-пересуды,
только
надоели они
до чертиков.
Надо, надо
что-то
придумать.
Свершилось бы
чудо
какое-нибудь,
пришла б, к
примеру, домой
к нему
рассыльная Тоська
Сидоркина и
велела
немедленно
собираться в
контору,
потому что
начальник
Ефрем Евсеич
решил срочно
принять его
на работу.
Вот было бы
самое чудное
чудо на
свете, но до
шестнадцати
лет ничего не
выйдет с
чудом —
закона
такого нету,
чтоб
малолеток на
взрослую
работу брать,
за них
отвечать
надо, а
отвечать
никому неохота.
Кто-то из
мальчишек
сказал, что
школьная директорша,
Виктория
Петровна, на
неделе поедет
в район
насчет
Леньки, она
уже ездила,
но какой-то
бумажки не
хватило, а без
нее
направления
в детдом не
дают. Однако директорша
не спешила в
район, свои
личные дела
справляла,
опять,
наверное,
замуж собралась
— прошел
такой слушок
по деревне.
Не везет ей с
мужьями. Три
или четыре
раза замуж
выходила, да
мужья что-то
не приживаются,
бегут от нее.
По этому
поводу Машуриха
(Петька
Широков
своими ушами
слышал!)
сказала в
магазине:
— Видать,
какой-то
изъян в
женщине, не
иначе.
Машуриха, клялся
Петька, так и
назвала ее
женщиной, а не
бабой, как
остальных зайских
женщин звала,
значит,
уважение к
директорше
имела, а как
же, внук-то
Оська в школе
у ней учится.
С Ленькой
директорша
про детдом
даже не
разговаривала,
лишь,
встретив на
школьной
спортплощадке,
спросила его
начальственно:
—Ты как, Сизов,
готовишься к
детдому?
Ленька
исподлобья глянул
на нее,
ничего не
ответил, а
она благосклонно
заверила:
—Ничего,
в детдоме
тебе хорошо
будет. И ушла,
сверкая
толстыми
голыми
икрами.
А жизнь в Заихе, как
всегда, текла
ни шатко ни
валко, казалось,
ничто не
могло
нарушить ее
однажды
установленного
ритма.
Подходила к
концу
трудная и пленительная
сенокосная
пора. Стояли
на редкость
погожие
солнечные
дни, и люди
спешили управиться
с сеном.
Ленька любил
эту пору. Бывало,
вооруженный
граблями,
чувствовал себя
взрослым и
старался не
отставать от
мамы, но
скоро
выдыхался, и
мама
прогоняла
отдыхать в
тень копны. А
какая
сладкая на
покосе обыкновенная
родниковая
вода — пьешь
и напиться не
можешь, а
если не
полениться и
поискать в
ближней
сырой
ложбине повдоль
ручья спелую,
будто
светлой
слезой земли
окропленную
черную
смородину, то
— настоящее
блаженство. В
прошлом году
он
напросился
вершить
зарод. Обычно
на зароде
стояла мама,
залюбуешься,
как она на
лету
подхватывала
навильники,
лишь
чуть-чуть
подправляла
граблями, и
сено будто
само собой
ложилось в
приготовленное
для него
место в
утробе
зарода. Опозорился
Ленька,
ничего у него
не вышло: три-четыре
навильника
— и он
беспомощно
барахтался в
сене. Мама засмеялась,
велела
слезать. Слез
безропотно, а
про себя
решил обязательно
выучиться
завидному
искусству
вершителя
зародов.
Об эту
пору в лесу
можно
опьянеть от
пронзительного
грибного
духа маслят,
подосиновиков,
подберезовиков,
сыроежек
самых разных
и, конечно же;
стройных
красавцев
еловых груздей,
всегда
чистеньких, аккуратных,
мокро
сияющих
Желтыми
махровыми
шляпками.
Даже грибы не
привлекали
Леньку...
Вечером
деревня
словно
отряхивалась
от дневного
безлюдья:
возвращались
домой покосники,
призывно
мычали
коровы,
трещали во всех
концах
мотоциклы. По
субботам и
воскресеньям
с железным
клацаньем
открывался клуб,
и до полуночи
танцевали
под радиолу и
заезженный
магнитофон зайские
парни и
девчата.
Вот так и
шли дни, и
ничего
особенного
не случалось.
Впрочем...
Раскряжевщик
с нижнего склада
Герасим Пекшин,
здоровенный
детина,
пьяный, до
полусмерти
измолотил
кулачищами
свою
маленькую
тоненькую
жену Настасью.
Настасья
оклемалась
немного и
пожаловалась
в контору,
чтоб
приструнили
мужа. Герасим,
еще не
протрезвевший
как следует,
собирался
пилить дрова,
невменяемо
выслушал
участкового,
со злости
трахнул
казенную
бензопилу
«Урал» о листвяжениый
сутунок —
разлетелась
на запчасти.
Участковый
повел
Герасима, а
Настасья со
слезами выскочила
вслед, умоляя
не уводить.
Герасим зло
обернулся:
—
Дура!..
Неутешную
Настасью
соседка
подняла с
пыльной
дороги,
отвела в дом
Когда у
конторы
остановился
городской «уазик»,
и из него
степенно
вылезли два
важных
мужика при
шляпах и с
портфелями и
две женщины с
кошелками,
никто не
удивился, но
все сразу
догадались:
приехала
комиссия по
проверке
очередной
жалобу Машурихи,
в этот раз—на
столовские
беспорядки.
После обеда
комиссия в
полном
составе
подкатила к Машурихе
домой. О чем
там говорили
с хозяйкой,
пока неизвестно,
но когда они,
вежливо
попрощавшись,
дружно сели в
машину, Машуриха
вернулась в
избу и в
заветной
клеенчатой
тетрадке
своей записала
для себя, что
была
двадцать
третья по
счету за
последние
три года
комиссия, семьдесят
два человека
приезжало по
ее жалобам в
районные и
центральные
инстанции на разные
безобразия в Заихе.
Вечером
комиссия отбыла
восвояси, а
по деревне
прошелестел
ехидный
слушок:
отбыла-то с
полными
сумками!
Ленька
особенно не
вникал в
деревенские
новости —
пускай
взрослые
сами
разбираются,
что к чему. Он
думал. В
одной умной
книжке вычитал,
что
гениальное
всегда
просто. Мысль
эта
понравилась
ему и
запомнилась.
И неважно,
что о
гениальном
он имел
весьма смутное
представление,
однако,
поразмыслив,
решил, что
гениальное —
это что-то
очень важное
для жизни
всех людей,
как колесо
или радио, например,
об этом тоже
написано в
той книжке.
Ни колесо, ни
радио Леньку
ни капельки
не
интересовали
— их уже
давно
придумали умные
люди и очень
здорово
придумали, а
вот как быть
ему, как жить?
Чего он
только ни передумал,
чего он
только ни
придумывал,
но из любой
придумки его
выходило — не
миновать ему
детдома. Он
уже
понемножку
начинал
привыкать к
этому, как к
неотвратимому.
И вот, когда
казалось, что
кроме
детдома ему ничто
не светит и
светить не
может, его
осенила
гениальная
идея. Именно
гениальная,
потому что
наверняка не
он один в
таком безвыходном
положении,
найдется
немало мальчишек
на свете,
которым
поможет его,
Ленькина,
идея.
Оказывается,
всё очень
даже просто.
Ни в какой
детдом он не
поедет. У
него есть свой
дом. Картошки
на зиму
хватит, можно
будет
несколько
мешков
продать,
значит; деньги
на первое
время будут.
Пенсию за
маму ему
должны
платить — сам
начальник
говорил.
Кому?
Квартирантам.
Он пустит к
себе квартирантов
с условием,
что не будет
брать с них
денег за
квартиру,
наоборот,
если они согласятся,
чтоб он
питался
вместе с
ними, отдаст
им свою
картошку и
будет
доплачивать
из пенсии.
Постирать
для себя он и
сам сможет.
На одежду и
всё
остальное
заработает в
лесхозе на
лесопосадках
и на сборе
сосновых
шишек на
семена. Вот
только как
быть с отчимом?
Жить с ним в
одном доме
Ленька не собирался:
не больно-то
приятно
видеть каждый
день его
обрюзгшую
физиономию. С
отчимом
пускай
начальник
разбирается,
пускай дает
ему квартиру
или... в общем,
это их дело.
От таких
светлых
мыслей
Ленька
взбодрился,
готовый
немедленно
бежать в
контору к начальнику,
чтоб
выложить ему
свою
придумку, да
вспомнил
вовремя, Тоська
Сидоркина
говорила в
столовой, что
Ефрем Евсеич
уехал в город
и вернется
оттуда, как
всегда,
вечером. Это
нисколько не
убавило его
хорошего
настроения,
скорее
наоборот: в
конце концов,
к начальнику
можно
сходить и
завтра, и
послезавтра,
важно не это,
а важно, что
найден верный
выход. В
избытке
радости он
поднял с дороги
пыльный
окатыш,
запустил им в
развалившегося
в тени забора
черномазого
щенка, промазал
и хорошо, что
промазал —
щенок не
виноват, что
у Леньки
такое
настроение.
—Ленчик!..
Ленька
вздрогнул,
повернулся
на оклик: возле
своей
калитки
стояла (а он
прошел и не
заметил!)
веснушчатая
рыжеволосая
Таня Климина,
выколупывала
из сырой
кедровой
шишки орешки
и улыбалась.—
-Ты что-то
на одних
собак
смотришь, а
людей не
замечаешь.
Загордился,—
насмешливо
проговорила
она.
— А
тебе-то что? —
не очень
вежливо
отозвался
Ленька.
—Грубишь...
А я, может,
тебе привет
хотела передать.
— Очень
мне нужен
твой привет.
— И не от
меня вовсе, а
от Люси
Прошиной. Что
так смотришь?
Забыл уж? А в
больнице кто
за тобой
ухаживал?
— А-а...
— То-то.
Она так и
сказала:
передай,
говорит, Ленчику
привет.
Завтра у нее
выходной,
обещалась ко
мне в гости
приехать. И
тебя проведать.
Как жизнь-то?
—
Нормально,—
неохотно
отозвался
Ленька.
— Ты что
такой? Будто
не рад?
— А чо
радоваться?
— А
привет?
—
Подумаешь...
И
все-таки
Леньке
приятно было
получить привет
от Люси, но не
будет же он
говорить об этом
кому попало,
хотя бы и
Тане. Таня
спросила:
— Хочешь
орешек?
— Спасибо...
У меня полно
дома шишек —
язык болит щелкать,—
лихо соврал
Ленька и сам
поразился
своему
вранью.
— Смотри,
а то у меня
еще две шишки
есть — угощу,—
сказала Таня,
сощелкнула
орешек и
неожиданно
спросила: — А
ты знаешь,
дедушка Леонтьич
помер?
— Не ври...
— Ой,
вчера еще.
Вечером.
Попросил у
бабы Фроси
чаю с
вареньем. Она
принесла, а
он уже помер,
не дышит. Мне
баба Фрося
сама
рассказывала.
Страшно так.
Я боюсь
покойников. А
ты?
— Чего их
бояться,—
машинально
ответил Ленька.
Оглушенный
сообщением
Тани, он еще
не сообразил,
что
произошло,
ведь недавно
Ленька был у Леонтьича
дома и
разговаривал
с ним, как вот
сейчас с Таней.
Наверное,
Таня что-то
перепутала..
Глава 12
 В
большой
комнате
горел свет.
Отчим сидел за
столом,
вытянув
перед собой
сцепленные
замком руки.
Он был пьян,
но, видать, не
очень, по
крайней мере,
серое
скуластое
лицо его не
вспухало
нервными
желваками и
маленькие,
глубоко
запавшие
глазки хоть и
блестели, но
не слезились
и с кончика
носа его не
капало. До
скрипа
зубовного,
как говаривала
мама, он еще
не дошел, но
как знать...
В
большой
комнате
горел свет.
Отчим сидел за
столом,
вытянув
перед собой
сцепленные
замком руки.
Он был пьян,
но, видать, не
очень, по
крайней мере,
серое
скуластое
лицо его не
вспухало
нервными
желваками и
маленькие,
глубоко
запавшие
глазки хоть и
блестели, но
не слезились
и с кончика
носа его не
капало. До
скрипа
зубовного,
как говаривала
мама, он еще
не дошел, но
как знать...
—Ты где
шляешься? —
набычился он
на пасынка.
—
Дедушка Леонтьич
помер...—
начал было
Ленька, но
отчим оборвал:
—Тебе-то
что? Помер и
помер, старый
был, потому и
помер. Все
помрем.—
Неожиданно
замолчал,
потом примирительнее:
— Тут я
кой-какие
твои вещички
собрал,—
ткнул в
лежащий на
стуле
рюкзак,— остальные
сам собирай,
как знаешь.
Завтра в детдом
поедешь.
Ленька
давно ждал,
когда он
заговорит о
детдоме и
мысленно
заготовил
ему ответ, но
сейчас
сообщение
отчима так
неожиданно
свалилось на
него, что он
на какое-то
время
растерянно
онемел.
—Не
поеду в
детдом,
—ответил он
наконец и сам
удивился, как
неуверенно,
извинительно
у него вышло
и, досадуя на
себя за свою
невольную
робость
перед этим
чужим ему
пьяным человеком,
добавил с
надрывом и
болью в
голосе:
—
Не поеду и
все!..
Сказал и
сразу
полегчало,
будто
сбросил с себя
ненужный
груз, теперь
он ничего не
боялся, что
будет, то и
будет.
У отчима
отвисла
нижняя
челюсть,
пьяные глазки
вспучились:
— К-как
не поедешь?..
— Не
поеду, и все,—
уже дерзко
повторил
Ленька, и
теперь в
голосе его
была твердая
решимость.
Отчим тяжело
поднялся над
столом.
— Как не
поедешь? Да
кто тебе
дозволит не
поехать! Ты
что, думаешь
на шее моей
сидеть?!.
— Никто
на вашей шее
сидеть не
собирается,—
Совершенно
осмелел
Ленька.— Я
буду жить
один. Без вас
обойдусь.
— И где же
ты жить
собираешься?
— Дома.
— Дома?
- А где же?
Не на улице
же
—Та-ак...
Значит, та-ак...
А ты у меня
спросил, хочу
я с тобой
жить или нет?
—И
спрашивать
не буду. Из
своего дома я
никуда не
пойду.
Отчим до
смешного
нелепо
заморгал,
силясь уяснить,
что же это
такое
происходит,
отчего
мальчишка,
его пасынок,
непочтительно
и так дерзко
смотрит ему в
глаза,
похоже, он и впрямь
никуда не
собирается и,
самое обидное,
не боится его.
Его!.. И отчим
сорвался на
крик:
—Щенок!..
Да я тебя!..
— Не
кричите, я
вас все равно
не боюсь. А из
дому никуда
не уйду. Дом
мой. Мама мне
его отписала.
— Твой
дом?!. Да я тебе
покажу такой
дом, что век
помнить
будешь!.. Во-он!!!
Во-он,
говорю!..
— Никуда
я не уйду.
Сами уходите!
И тогда...
Миг, и Ленька
прямо перед
собой увидел
злой,
воняющий
сивушным
смрадом
перекошенный
рот отчима и
почувствовал,
как туго
сжался на шее
воротник
рубашки.
— Не
трогайте
меня! —
рванулся от
него Ленька.
— Я тебе
не трону!..—
зловеще
скрипнул
зубами отчим,
и в следующий
миг на
незащищенное
Ленькино
лицо обрушился
тяжеленный
кулак, вырвав
из Леньки
пронзительный
вскрик боли.—
Я тебе не трону,
не трону,— в
такт ударам
повторял
отчим и, как
ни вырывался
Ленька,
выволок его
на крыльцо.—
Я тебе не
трону! — С
силой
швырнул с
крыльца на
землю и
захлопнул,
уходя; дверь,
а немного
погодя она
опять
открылась и
из нее
вылетел
Ленькин
рюкзак. Дверь
снова захлопнулась,
на этот раз в
сенях
стукнул засов
и донеслась
грязная
ругань
отчима.
Леньку
никогда так
не били.
Случалось,
дрался с
мальчишками,
ему навесят
фонарей под глазами,
нос
расквасят, и
сам он в
долгу не оставался,
или мама
редко, но,
случалось,
больно
отстегает
прутом или
надерет уши,
и если,
случалось,
размазывал
слезы по щекам,
то не от боли,
а от обиды. От
боли он
никогда не
плакал.
Сейчас
он плакал от
острой,
стиснувшей
грудь обиды и
от боли тоже.
Боль
обжимала
лицо, саднило
в затылке, от
парного
привкуса крови
во рту его
чуть не
стошнило, он
сплевывал ее
тягучие
сгустки и вместе
с ними
выплюнул
выбитый зуб,
в голове
звенело, тупо
ныл левый
бок.
Ленька
плакал. Он
был ребенок,
он плакал от
боли, от
обиды и от
жалости к
самому себе,
плакал тихо, по-щенячьи
скуля. Он
больше
ничего не
мог. Он
старался не
плакать и не
мог перестать,
слезы сами
текли из глаз
и от этого,
наверное,
боль
постепенно
унималась.
Ночь уже
совсем
загустела; в
высоком небе
перемигивались
чужие
равнодушные
звезды. И
холодно
Леньке
сделалось,
ой, как
холодно сделалось.
Он перестал
плакать,
поежился; с трудом,
пересиливая
боль в левом
боку,
поднялся с земли.
Огляделся. В
двух шагах от
себя увидел
рюкзак, и
пронзила
догадка:
отчим не
просто избил
и вышвырнул
его за дверь,
он вышвырнул
его из его же
дома.
Насовсем
вышвырнул! Это
настолько
поразило
Леньку, что
внутри у него
сперва будто
что-то
оборвалось, даже
боль в боку
замерла, а
потом его
бросило в
жар. Он чуть
было не
кинулся на
крыльцо, чтобы
изо всей силы
стучать в
дверь,
кричать,
требовать, но
резкая боль в
боку
напомнила о
себе, и он
остался на
месте, с грустью
подумал, что
с пьяным
отчимом
лучше не
связываться.
Он подождет
до завтра,
когда тот
проспится...
Хорошо,
что сейчас
лето. Правда,
ночами уже свежо,
но на
сеновале
осталось
немного прошлогоднего
сена, можно
зарыться в
него и проспать
до утра.
Ленька
поднял
рюкзак и тут
вспомнил про
баню. Лучшего
места для
ночевки не
сыскать!
К
счастью, баня
оказалась
незапертой,
Ленька сам
позабыл ее
замкнуть,
оставленный
им замок так
и лежал на
столике у
банного окошка
рядом с
коробкой
спичек.
Ленька
завесил окошко
половинкой
старого
байкового
одеяла, чтоб
электрический
свет, не
пробивался
наружу. Закрючил
дверь. В углу
предбанника
нашел
тяжелый гвоздодер,
приставил
его к
дверному
косяку — чтоб
был под
руками, на
случай, если
отчим вздумает
искать его
здесь. Уж
сюда он его
ни за что не
пустит и бить
себя не позволит.
На
гвозде возле
двери висел
старый
нагольный,
полушубок —
обычно мама
управлялась
в нем по
хозяйству, а
под ним —
прожженный в
нескольких
местах
дождевик
отчима.
Полушубок
Ленька
постелил на
полок вместо
матраца, в
изголовье
приспособил
рюкзак. Погасив
свет в
предбаннике,
на ощупь
пробрался на
полок, не
раздеваясь
лег, укрылся
дождевиком.
Заснуть
не мог. Ныло,
опухая, лицо;
боль в боку
чутко
затаилась и
возникала
немедленно даже
при глубоком
вдохе, видать,
крепко
ударился о
дверной
косяк и,
может, сломал
ребро. Теперь
уж никуда не
денешься,
придется
терпеть.
Конечно, он
мог бы ничего
не говорить
пьяному
отчиму, но и
соглашаться
с ним тоже не
мог, а тот
сразу полез
драться. Где
уж Леньке
устоять
перед ним — у
него кулаки
лесорубские,
все равно,
что железные.
Во дворе
стукнула
дверь, чуть
слышно, но
Ленька
услышал и,
вздрогнув,
весь
напрягся в ожидании.
Так и есть —
отчим — это
его сиплый прокуренный
кашель,—
наверное,
перетрусил и
собрался
искать его,
Лёньку.
Сперва
заглянет в
сеновал,
после явится
сюда... Но он,
как видно, и
не думал
никого искать
или
передумал,
громко
высморкался,
снова
стукнула
дверь, и
стало тихо,
очень тихо. Потом
где-то в
конце улицы
залихватски
затрещал
мотоцикл,
громко
фыркнул и, выстрелив,
испуганно
заглох. Опять
тишина, собаки
и те будто
сговорились,
не взбрехнет
ни одна.
...Хватаясь
руками за
острые камни,
Ленька карабкался
вверх по
крутой горе к
раскидистой
поднебесной
сосне. Она
призывно
махала ему
ветвями; он
карабкался
все быстрей и
быстрей, еще
чуть-чуть — и
он ухватится
за вспухший
из земли у
подножия
сосны мускулистый
жгут корня
ее, он уже
протянул к нему
руку, как
появилась
перекошенная
в злой
усмешке
пьяная
физиономия
отчима, напахнуло
смрадом
сивушного
перегара, он протестующе
заслонил
лицо руками,
с криком
сорвался вниз
и... проснулся.
Фу-у... Ленька
какое-то
время лежал
неподвижно, прислушиваясь
к тишине,
кажется —
ничего подозрительного.
Рукой
потрогал
ушибленный
бок — боль
тупо
отозвалась,
но не так
сильно —
можно терпеть,
зато левый
глаз и щека
опухли,
превратились
в сплошную
лепеху. По
личному
опыту он
знал, опухоль
скоро сойдет,
вместо нее расцветут
радужные
синяки.
Синяки так
синяки...
Ленька слез с
полка,
откинул
одеяло с окошка
— всплеснул
яркий
солнечный
свет. Ничего
себе, поспал
называется,
отчим, небось,
уже давно на
работе.
Так и
есть!.. На
двери висел
замок. Это,
пожалуй, к
лучшему. Надо
умыться и
сходить в
контору к
начальнику.
Ключа
над дверью не
оказалось.
Может, он в другое
место
положил?
Ключа нигде не
было.
Выходит...
Выходит,
отчим не из
пьяного
куража, а
вправду
выгнал его из
дому... Говорят
же, что у
трезвого на
уме, то у
пьяного на языке.
Нет, тут
какая-то
ошибка, не
может быть,
чтобы отчим
так сделал,
он просто с
похмелья
сунул ключ в
какую-нибудь
щель и
теперь,
наверняка, и
сам не
помнит, куда
сунул. Ленька
снова теперь
уже все мало-мальски
заметные
щели обыскал,
под крыльцом
пошарил —
нету.
Вспомнил:
одно время,
при маме еще,
они прятали
ключ в
почтовый
ящик возле
калитки. В
почтовом
ящике — пусто.
Ах так!..
Ленька не
заплакал от
обиды, все
обидные
слезы он
выплакал
вчера. Он
крепко стиснул
зубы, сжал
кулаки. Он
еще сам не
знал, что
будет дальше,
но уже
сорвался с
места, принес
из сеновала
охапку сена,
засунул его
под крыльцо,
сбегал в баню
за спичками.
Спички
ломались,
никак не
хотели загораться.
Он до крови
закусил
распухшую губу.
Наконец
спичка
вспыхнула. Он
увидел ее нежный
ласковый
огонек; и
что-то
дрогнуло в нем,
он испуганно
отстранился
от огонька и тот,
сжавшись,
юркнул в сено
и засветился
там робким
розовым
язычком.
Ничего не понимая,
Ленька,
холодея,
глядел на
него, и до сознания
постепенно
доходило...
Пожар, сейчас
будет пожар!..
Как бы
подтверждая
это, розовый,
язычок
вскинулся
вверх и
по-змеиному:
зашипел.
Ленька в
ужасе
отпрянул от него.
А язычок уже
стал
свободным
огнем и, разрастаясь,
прильнул к
ступенькам.
Ленька схватил
стоящую у
сеней лопату
и начал шуровать
ею, стараясь
вытащить
горящее сено
из-под
крыльца, оно
никак не
вытаскивалось,
разгоралось
все Злее,
нахальнее, а
тут как на
грех лопата
застряла
между
ступеньками. Пока
выдергивал
ее, пламя
через щели
выбилось
наружу и
жадно
набросилось
на коричневый
от
солнечного
загара
тесовый бок
сеней. Ленька
изо всех сил
лупил по огню
лопатой, а он,
будто
издеваясь
над ним,
приплясывал, неумолимо
разрастался
и, наконец,
добрался до
козырька
крыши сеней.
В отчаянья
Ленька
бросил
лопату,
сорвал с себя
рубашку и принялся
хлестать ею
огонь.
Рубашка
вспыхнула.
Раздался
панический
женский
вопль: — Пожа-ар!..
Ратуйте-е!..
Гори-им!..
Кричала
тетка Минаиха...
 На
глаза попало
пусто ведро.
Вода! У
калитки же
два полных
бака воды —
Гришка
Сережкин вчера
налил. Ленька
схватил
ведро. Он
бегом таскал
воду из
баков, с
разбегу
плескал из ведра
на Огонь,
огонь по-гадючьи
шипел,
обнажал
обуглившееся
дерево и,
шумно
вздохнув
паром,
принимался
пластать с
новой силой.
Вокруг уже
суетились люди,
что-то
делали,
размахивали
руками, кричали;
оттеснили
Леньку.
На
глаза попало
пусто ведро.
Вода! У
калитки же
два полных
бака воды —
Гришка
Сережкин вчера
налил. Ленька
схватил
ведро. Он
бегом таскал
воду из
баков, с
разбегу
плескал из ведра
на Огонь,
огонь по-гадючьи
шипел,
обнажал
обуглившееся
дерево и,
шумно
вздохнув
паром,
принимался
пластать с
новой силой.
Вокруг уже
суетились люди,
что-то
делали,
размахивали
руками, кричали;
оттеснили
Леньку.
Он видел,
как рухнула
крыша и вверх
густо сыпанули
искры. Кто-то
неподалеку,
не то сожалея,
не то радуясь,
авторитетно
изрек:
— Хорошо,
что тесовая,
а не шиферная
— вот бы постреляла!.
Кто-то
поддержал:
— Еще бы!..
Шифер
здорово
горит...
Истошно
сигналя о
своем,
опоздании,
подкатила
красная
пожарная
машина...
Откуда-то
сбоку
объявилась
тетка Минаиха,
подступила к
Леньке:
—Это он
поджег! Я
видела,—
грозно
ткнула в него
пальцем. — Не
врала бы
хоть,—
урезонили Минаиху.
Та
взвинтилась:
— Вот те
крест не вру,
не сойти мне
с этого места!..—
И на Леньку с
кулаками:
—У-у, бандюга!
Еще в детдоме
не был, а все
замашки
детдомовские!..
— Чего на
мальчишку
кидаешься? —
отстранил ее пилорамщик
Степан
Звягин.— Ты
лучше скажи
спасибо, что
ветра нету,
твоя бы избушонка
- тю-тю— и
поминай, как
звали. Минаиха
сердито
сплюнула и
затрусила
прочь.
Он
одиноко
стоял в
окружении
людей; люди
ахали, охали,
удивлялись,
узнав в
полуголом
отрепыше в
саже и
волдырях с опаленными
спутанными
волосами и
опухшим
лицом своего,
зайского
мальчишку
Леньку Сизова.
О чем-то
спрашивали,
смысл
вопросов не
достигал его,
у него
кружилась
голова, он с
трудом
держался на
ногах. Ему бы
в холодную
воду, чтоб
унять
стонущую
боль ожогов...
И вдруг:
—Ленчик!..
Он
встрепенулся,
узнал голос,
увидел
участливо
распахнутые
Люсины глаза.
—Что с
тобой
случилось?
Тебе больно?
Сильно больно?
- Не-ет...
Чуть-чуть... Я
пожар тушил...
—Как же
так
неосторожно...
Да ты весь
обгорел! Что
же это такое
делается, а...
Люди! Да вы не видите,
ли чо ли,—
ребенка в
больницу
быстрей
надо!..